Почему архивисты занимаются не делопроизводством, а судьбами людей, что такое поражение архивиста и при чем тут каменный гость.

Как я пришла в «Мемориал»? Моя подруга и моя коллега, моя соратница Алена сказала мне: «У нас открылась возможность, открылась вакансия заниматься комплектованием. Вот у нас сейчас появился такой запрос: человек хочет, чтобы к нему кто-то приехал, забрал его архив. Имей в виду, что ты ее видишь первый и последний раз в жизни. Приедешь, заберешь, уедешь...»
Ближайшая моя подруга на всю оставшуюся жизнь. Я ее потом хоронила.
Дело было в том, что, действительно, я пришла, она мне дала огромный архив. И вот она пошла чайник ставить, а у нее на тумбочке лежит книжка раскрытая. Ну, всегда интересно, что человек читает. И это же не так что я невоспитанность проявляю. Я подхожу, смотрю — книжка открытая, и там коллективная фотография, а на ней мой отец.
Книжка была посвящена 50-летию института, где работал мой отец и где работал муж вот этой нашей информантки.
Так что это был мне такой знак, что, наверное, в «Мемориале» имеет смысл немножко поработать. В чем я потом убеждалась многократно в течение многих лет.
Я архивист по случайности. Я случайно пришла туда, поняла, что это совершеннейший мир волшебства и сказок и что это просто как царь Кощей над златом чахнет. Потому что вдруг открываются какие-то такие вещи неведомые.
Обычный архивист — он сидит за столом, перед ним лежит гора бумажек, которые он пронумеровывает, кладет в коробочку, надписывает, пять часов пробило — он ушел домой.
Архив «Мемориала» несколько другой. Не знаю почему — так, наверное, исторически сложилось. А может быть, просто мы считаем, что мы не делопроизводством занимаемся, а у нас в руках судьбы людей.
Наверное, я сейчас случайно сказала важное. Потому что, наверно, это правда. И когда к нам в руки попадает набор документов, мы понимаем, что за ними стоит человек. Дальше можно поступить ведь как хочешь: можно положить в конвертик и забыть, а можно попробовать понять, что из этого может найти продолжение. Какое может быть продолжение, если мы говорим про прошлое? Но тем не менее.
В какой-то момент совершенно случайно к нам попал некий архив, в котором был массив документов, и он вычленился в отдельную тему. Оказалось, это дореволюционные письма человека из заключения. Он отбывает каторгу при царском режиме. И это письма его из узилища (коли у нас дореволюционное, то будем пользоваться соответствующей лексикой). Он пишет письма жене. Довольно суровое у него заключение: он в одиночке. Насколько я помню, маленькое окошечко. В это маленькое окошечко он видит некие изменения в природе: снегом занесло или, наоборот, цветочек расцвел. По этому поводу даже пишет стихи и посылает своей жене.
Фамилия не самая распространенная, поэтому мне стало интересно, что же с ним стало дальше. Несложным поиском я увидела, что этого человека... Революционер Революционерыч просто, вот просто весь его пафос — это счастье народа и победа над проклятым царизмом. И вот будет счастливое общество, мы его построим своими руками. Ну, расстреляли его в 37-м году, понятное дело.
Его освободила революция из этого самого заключения, он такой ленинец. И он сделал неплохую карьеру, но в 37-м году был расстрелян. Я узнала, что он расстрелян, это было легко: у нас база есть, посмотрела, не вставая со стула. А дальше я попробовала посмотреть, есть ли кто-нибудь с совпадающими отчеством и фамилией.
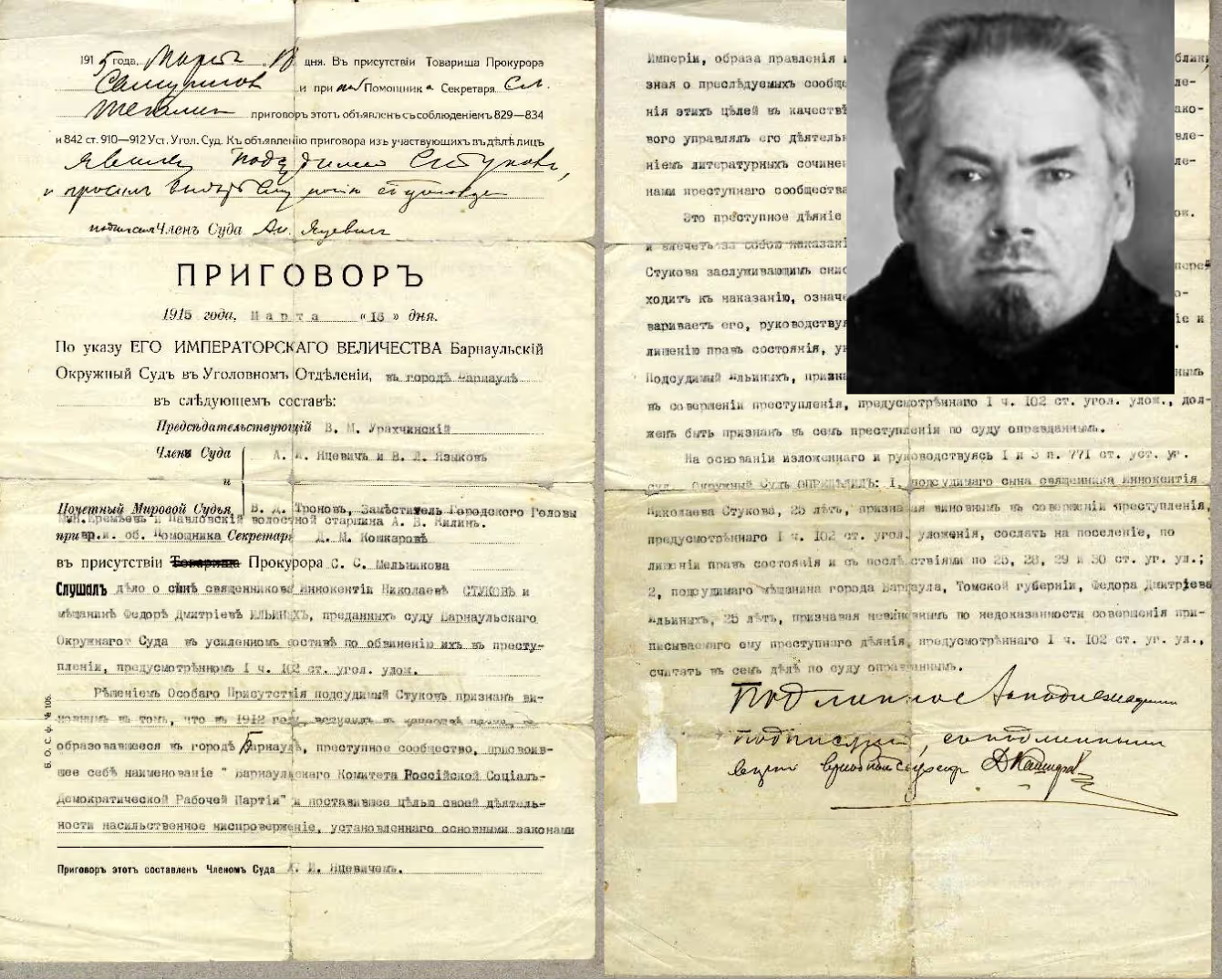
Честное слово, меня никто об этом не просил. Это было исключительно желание продолжения. Чтобы мы понимали, что дальше. А то у нас получается, последнее письмо — это где-нибудь 16-й год, потом мы знаем, что расстрел 37-го, и все. Но как-то провисает, да?
Ну, в общем, мы нашли его сына, которого уже нет в живых, и мы нашли его внучку. И я внучке написала. У нас же есть фейсбук, и многие люди в фейсбуке. Пишешь, извините, в личку. Через какое-то время она откликнулась. И я ей сказала, что у нас есть письма вашего деда, хотите почитать? И она прискакала к нам.
Я даже помню, что она где-то жила за городом и работала. И она спросила: «А можно в выходные? Потому что я не могу в рабочие дни». Но ради такого случая — конечно, можно. И мы с ней были вдвоем. Никого больше не было.
И она читала в некотором потрясении. И сказала мне такую потрясающую фразу, что он открылся ей, конечно, абсолютно с неожиданных сторон, потому что для отца он был, как это всегда у нас принято, совершеннейшим рыцарем революции, погибшим на баррикадах. Расстрелянным, реабилитированным. Поэтому он такой... герой. Такой каменный гость. Она говорила: «Слушайте, а он же стихи пишет, он же живой. А ведь он тут плачет». А ведь каменный гость не плачет никогда.
Так что мы ей таким образом подарили живого человека. Это архивная работа или нет? Это нужно кому-нибудь, кроме вот этой одной женщины и нас, сотрудников «Мемориала», которые протянули эту ниточку и связали незнакомых между собой людей, которые, правда, живут под одной фамилией? Счастье им это, облегчение — или, наоборот, груз положили мы на ее плечи? Или что сделали?
Я сейчас хочу привести другой пример, и он тоже абсолютно крайний. Для меня он был, я вам сразу скажу, для меня он был поражением.
Тоже случайно, как это всегда бывает: эти случайности бывают ежедневно, тем не менее они все равно случайности... В абсолютно другом архиве была вставная такая часть — с моей точки зрения, очень интересный, совсем не наш период, потому что наш период, мы считаем, с 17-го по 91-й год. А тут Первая мировая война.
Женщина, медсестра с Первой мировой войны, пишет письма своей кузине. Потом она продолжает писать письма кузине. И так пишет, дописывает до 60-х годов. И мы узнаем из этой большой переписки, что сначала она — медсестра, сестра милосердия на Первой мировой войне. Что ее отец тоже на Первой мировой войне воюет.
И я понимаю, высчитываю, что это такой потрясающий генерал Туманов, князь грузинский. Фотографии — красоты непередаваемой. Вот эти вот дореволюционные фотографии на картоночках, где сзади написано, что все негативы сохраняются. Это все просто восторг для коллекционеров и для архивистов. Которые тоже коллекционеры.
И период-то не наш, Первая мировая война. И человек не пострадал.
И я некоторым усилием воли нахожу его внука. Смешно нахожу, потому что там была приложена записная книжка с телефонами 70-х годов, 1970-х годов. Я позвонила по этому телефону, и он подошел.
Я ему говорю: «Вы знаете, у нас есть фотографии вашей бабушки». А я из писем знаю, что у этой нашей героини Тамары Тумановой есть сын, который с женой развелся, и есть у нее, соответственно, сын и внук. И она очень одинокая, живет в Тбилиси, заведует кафедрой фортепиано в Тбилисской консерватории. У нее никого нет, потому что сын в Москве, внук в Москве, дети развелись. Мальчика своего она не видит, страдает. Очень переживает, что у нее такая одинокая старость, что она лишена общения со своим единственным и любимым внуком.
Я звоню ему и говорю: «Вы знаете, у нас есть фотографии вашей бабушки. Можете приехать». Он говорит: «Меня это не интересует».
Я немножко подождала. Сама себе придумала красивую историю: ну, я позвонила по телефону человеку, наверное, не очень молодому, обрушила на него какую-то массу информации. Все боятся сейчас мошенников, все боятся жуликов. Он, наверно, думает, что я от него чего-нибудь хочу, что, может быть, я неловко сказала. Может быть, он так понял, что я хочу к нему прийти в гости, и испугался, и не хочет он никого к себе пускать.
Я ему звоню через месяц или два и говорю: «Мы с вами некоторое время назад говорили. У нас есть фотографии вашей бабушки, мы их сканировали. Если вы дадите мне ваш электронный адрес, я их вам пришлю». Он говорит: «Меня это не интересует».
Такой случай был у меня однократно, но я как-то так тяжело его переживала... Я представила себе, что, если бы мне кто-нибудь сейчас позвонил и сказал: «У меня есть фотографии вашей бабушки», — боже мой, да я бы пешком к нему, босиком побежала.
Довольно давно одна наша сотрудница была на Колыме, и, когда она уже уезжала, ей прямо к теплоходу — или что там теперь у нас: теплоходы, пароходы? В общем, что-то, что с Колымы уходило... Ей сказали: «Вы знаете, мы вот нашли» — и дали ей пачку писем. Пачку лагерных писем.
Она в экспедицию ездила на Колыму. Наши сотрудники в 90-е годы много раз ездили на Колыму в экспедиции: брошенные лагеря, архивная работа и всяко-разно.
Ей дали эту пачку писем. Мы их рассмотрели, изучили, и выяснилось, что это такой очень известный троцкист, его фамилия Бодров. Он был неоднократно арестован, репрессирован. Сиделец, немыслимый сиделец. Он был такой идейный троцкист: даже когда Троцкий попал в ссылку в Казахстан, он поехал туда, отрастил бороду, чтобы как будто он кучер, извозчик. И таким образом была связь с Троцким.
Это было несколько открыточек, обращенных к его детям, которые он писал, будучи в заключении на Колыме. А дальше ведь как происходит дело? Человек написал письмо и опустил в ящик. Дальше включается цензура, потому что это лагерная почта. И что-то они посылают, а что-то они подшивают к делу. Это было то, что было подшито в лагерное дело.

А дальше в тот момент, в 90-е, на Колыме чистили ведомственные архивы. И то, что им казалось ненужным, они просто выбросили. Кто-то подобрал, а тут была наша Ирина, и ей передали. И оно сохранилось.
И вот мы сидим, работаем. Раздается звонок, беру трубку в данном случае не я, а моя коллега. Она в некотором потрясении разговаривает, потом вешает трубку и говорит: «Слушай, звонила из Парижа внучка Бодрова». Я говорю: «Как внучка Бодрова?» — «Ну вот внучка Бодрова». — «Да, — говорю, — и что?» — «Я ей сказала, что у нас есть письма ее дедушки. Она сказала: „Я вылетаю“».
И действительно вылетела.
Самое интересное — в семье никто не знал, что он троцкист. В семье жена передавала информацию, что он был настоящий коммунист, большевик. Никаких конфликтов с линией партии не было. Ну, погиб. Погиб, как все. Так что упало с неба в буквальном смысле слова. Это все чудо.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Что может скрываться в старых подушках, как читать следственные дела и почему заполнение архивных карточек переворачивает историю Советского Союза.

«Единственное, что я могу вам предложить, — это черная работа, карточки писать. Потому что за каждой карточкой у нас человек».
Когда-то Арсений Борисович Рогинский, кроме того что он завещал нам писать карточки, он когда-то сформулировал — и, по-моему, замечательно, — что мы всю нашу историю Советского Союза переворачиваем, вот пирамиду переворачиваем головой вниз.
Мы их складываем: одна судьба, вторая, десятая, двадцатая — и вот это у нас и есть история страны. И войны, и побед, и история репрессий. История не может быть только чудная, только славная, только победоносная. Она такая, какая она есть.
И поэтому, когда архив «Мемориала» собирался, долго думали, какой фокус взять, какого направления он должен быть. Решили собирать не фээсбэшные архивы, а все то, что осталось в человеческой памяти. Все, что из семей, что в домах есть. Иногда это чемодан, а иногда это один клочочек.
А если к этому одному клочочку мы можем добавить следственное дело, тогда у нас получается медалька с двух сторон. Ведь мы, когда берем следственное дело и читаем его... это, на самом деле, большая работа — читать следственное дело. Надо всегда, поминутно помнить, что оно написано рукой следователя. И человек очень зыбко просматривается за этой записью следователя. Надо все время это держать в голове, а это сложно, потому что практически под каждым абзацем стоит подпись. Он подписал, подписал, подписал. Признал. Почему он признал? Зачем он признал? Мы же этого ничего не видим.
Опять-таки это тема больших-больших исследований — эта культура составления протокола, язык протокола. Но иногда мы можем видеть, что допрос начался, предположим, в 19:15, а кончился в 02:30. Это сколько же он длился? Семь часов. Три странички. Что ж там было на эти семь часов на этих трех страничках?
Или мы читаем какой-нибудь абзац, условно говоря: «По пятницам мы устраивали сходку и планировали террористический акт против руководителей партии и правительства». Это что значит? Что по пятницам мужики после работы собирались и пили пиво. Понимаете? Но следователю это нельзя написать, ему же надо подвести под приговор. Я сейчас конструирую, это не так. Но вы действительно видите протокол допроса, который написан действительно таким кондовым языком, где не «встречи», а «сходки», не «группа товарищей», а «клика» или «банда».
И это иногда единственный источник. Единственный. Другого нет. Поэтому если к этому документу мы можем приложить что-то, что написано его собственной рукой: его письмо, его обращение, предположим, даже в какие-то верховные службы, ходатайство о пересмотре или обращение о помиловании, где он описывает, что с ним было, — то это замечательно.
Любой клочочек — это огромная ценность, любая бумажечка, даже не письмо, а обрывок письма из лагеря — он очень большая редкость и очень большая ценность. Их сохранилось очень мало. Просто вот штуки. То, что у нас большой такой корпус, это потому что мы 30 лет собирали по зернышку, по камешку, по крошечке.
Поэтому у нас совершенно другой фокус, другое отношение к документу. И, наверное, отсюда у меня отношение к каждой такой бумажке как к личному достоянию. И поэтому такое трепетное отношение к персонажу, к герою.
Он становится героем, понимаете? Они, правда, все мои любимые, я их всех знаю.
Когда-то пришел человек, примерно моих лет. Это было лет 10 назад. А может быть, чуть помоложе меня. И сказал, что у него мама умерла. У мамы была любимая подушка, с которой она не расставалась. Мама умерла — что они сделали в первую очередь? Они вспороли подушку.
А там какие-то даже не обрывки, это нельзя назвать обрывками... Он принес нам такую кучку вместе с перьями подушечными, хлам бумажных обрывков, кусочков.
Но дело в том, что есть некоторые справки, которые... знаете, как Шерлок Холмс умел отличить передовицу Times от всех остальных по одной строчке? Я тоже могла отличить по одной букве справку об освобождении. Она очень характерная, ее ни с чем не спутаешь. Я ему говорю: «Это справка об освобождении».

Но тут очень странная история. Потому что он сказал: «У меня мама никогда не сидела». У него мама никогда не сидела, но пришел-то он в «Мемориал». Понимаете? Поэтому мы не будем тут никого ловить на несоответствиях, но пришел в «Мемориал». Понимал, куда идет. Но «мама никогда не сидела».
Сидела мама как миленькая. Но только дело в том, что он родился после ее освобождения, а она ему об этом никогда не упоминала.
Вот эта сторона жизни, весь вот тот пласт у него совершенно нетронутый, абсолютно. И тут тоже люди реагируют по-разному. Больше он к нам никогда не приходил.
А есть пример совершенно гениальный. К нам когда-то пришел человек с такой очень литературной фамилией, распространенной. И начал искать дедушку.
Ну, дедушку-то найти не фокус, дедушка расстрелянный, поэтому мы его нашли просто в мгновение ока. Но дело в том, что бывают такие дедушки, по которым как смотришь на него — понимаешь, что там же и бабушка за ним должна пойти.
И мы его спрашиваем: «А бабушка-то что?» Он говорит: «Я не знаю, даже не знаю, как ее зовут». — «Вы не знаете, как зовут, а мы знаем. Давайте мы вам расскажем, как бабушку зовут, и скажем, что с ней было».
Дяденька ушел от нас, что называется, на ватных ногах. Но прошло некоторое время. И под Новый год он появился у нас в архиве вот с такой корзиной! Новогодняя корзина со всем, что полагается к Новому году.
Ну, отлично. Прошел год, он пришел к нам снова и принес опять эту корзину. Прошел второй год. Он пришел к нам снова и принес опять эту корзину.
Первый раз это было в 17-м году. Представьте себе, он пришел 29 декабря 23-го года. И принес нам эту корзину и сказал, что так будет всегда.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Уникальная коллекция переписки детей с арестованными отцами. Почти никому из них не суждено было увидеться снова.

В какой-то момент мы с моей коллегой собрали несколько таких коллекций, с нашей точки зрения, совершенно уникальных: письма отцов, написанные из лагеря.
Пока папа дома... он поздно приходит, видит своего ребенка или уже спящим, или еще спящим. Он, конечно, его, бесспорно, любит. Бесспорно, думает, что наступит воскресенье, я пойду с ним куда-нибудь в зоопарк или почитаю ему книжку. А потом папу арестовывают.
Из этих шестнадцати человек очень мало кто вышел. По-моему, человека три всего лишь вышли на волю. Все остальные или умерли в лагере, или их расстреляли вторым приговором. Но вот этот мощный абсолютно отцовский инстинкт, он прорезался в лагерных условиях совершенно фанатично. Они не просто пишут своим детям письма — там, слушайся маму, хорошо учись и гуляй на свежем воздухе. Они передают им в письмах, это получается такое дистанционное воспитание, такое онлайн, как примерно у нас было во времена ковида. Они передают им то, что для них важно, что для них ценно.
Это совсем разные люди, и поэтому совсем разные напутствия и наставления. Один из наших персонажей был страстным филателистом. И он своему сыну, даже когда писал письма в лагере, он на этих письмах рисовал марки от руки. Причем эти марки носили очень сиюминутный смысл: он рисовал на марках то, что было вокруг него. Вот он сидел в Горной Шории, в Сиблаге, в сибирском лагере, и он картину лагеря нарисовал на марке. Это совершенно потрясающе. Самое интересное, что потом сыну-то деваться некуда было, он тоже стал филателистом. Ну а как иначе?
Или был такой абсолютно потрясающий, гениальный человек. Они, в общем, конечно, все гениальные. Но кто-то совсем гениальный. Такой Алексей Вангенгейм, который основал в Советском Союзе метеослужбу. И он пишет своей дочке совершенно гениальные письма, просвещая и образовывая. Ребенок растет... В 34-м его посадили, ей было четыре года, и до 37-го он писал ей письма. Сначала это были детские загадки, потом всякие явления природы, солнечное затмение, спирали, перспективы. Вот это все — и в рисунках.

Потом он придумал такую науку, которая называется не знаю как — ботаническая арифметика или арифметическая ботаника. Он собирал гербарии... Это все на Соловках происходило. Надо понимать, что на Соловках лето такое — месяца полтора, наверное. Собирал гербарии, чтобы потом от письма к письму ее образовывать: циферка один — это один листик и все то, что вокруг этого может быть, циферка два — это такие иголочка сосны с двумя хвоинками и что еще может быть вокруг двух. Это все совершенно замечательно. Этот гербарий сохранился и был передан нам в архив.

И вот каждый из них передает своим детям в письмах вот так, дистанционно, что ему кажется важным. И мы решили, что мы должны собрать эти судьбы и рассказать про них и про то, как судьбы детей потом сложились. Потому что если сын филателиста стал филателистом, то кем должна была стать дочка гидрометеоролога? Она стала палеонтологом, стала главным мамонтологом Советского Союза. У нее дома бивни этих мамонтов лежали просто на полу.
И я была у них дома. Я знаю этих людей. Они вошли в мою жизнь, они стали частью и моей жизни. Это, наверное, не знаю, немножко неестественное состояние для любого другого человека. Но, с другой стороны, книжные, литературные герои тоже входят в нашу жизнь, они тоже становятся нашими друзьями, и нашими персонажами, и нашими сюжетами. С которыми мы советуемся, когда нужно, или равняемся на них, ориентируемся на них. Так ведь тоже бывает.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Как архив может не только рассказать вам о вас самих, но и изменить вашу жизнь.

Как вы думаете, если мы выйдем на улицу и поставим там сто человек, сколько из них были в архиве когда-нибудь в своей жизни? Или обращались к архивам? Я думаю, что никто из этих ста.
Потому что что такое архив в нашем представлении таком, обывательском? Это некая непонятная штука. Там, наверное, свалены груды каких-то старых бумажек. А что там может быть? А что мы там будем искать, зачем мы туда пойдем и как мы туда пойдем? И можем ли мы туда пойти?
Если речь идет о нашей теме, о теме репрессий — это что, в КГБ надо идти? Прямо своими ногами, вот прямо туда внутрь? Да вы что? Зачем я туда пойду? Я боюсь. А потом с меня возьмут какие-нибудь обязательства, какие-нибудь расписки, заставят меня быть, наверное, каким-нибудь их сотрудником. Я не хочу, я боюсь, я не пойду туда.
Масса, масса таких эмоций сразу всплывает.
Я вам честно скажу: я очень много раз была в архиве ФСБ, и каждый раз я иду туда с усилием. Я должна себя преодолеть. Поэтому — пойти в архив, спросить, сказать? «Нет, я не хочу. Пускай кто-нибудь другой это сделает». И когда сейчас к нам люди обращаются, я вынуждена им объяснять, что вместо вас пошла бы и написала, но я не имею права. Потому что задать вопрос по теперешним правилам имеет право только родственник. Принеся документы, подтверждающие родство.
И это особая песня. Потому что, может быть, еще можно найти свое свидетельство о рождении, но как мне, например, доказать, что этот человек был братом моей бабушки? Для того чтобы доказать, что они брат и сестра, нам надо найти их — и того, и другого — свидетельства о рождении. Это нереально. Это совсем нереально, не надо себя обманывать. А если мы не можем доказать родство, то ведомственные архивы, скажем политкорректно, считают в своем праве отказать: «Вы не имеете права на ознакомление с документами».
Но на самом деле не все так жестко, потому что есть такое понятие — «прекращение срока тайности». Истек срок, по которому нужно хранить документ без права доступа. В обычной практике считается, что 75 лет прошло — и все должно быть передано на обычное государственное хранение. Здесь все не так. Здесь все намного сложнее, хитрее и запутаннее. В одном городе может быть одно, а в другом городе может быть другое. Или, если мы говорим о следственных делах репрессированных, частично оно осталось в архиве ФСБ, частично передано на государственное хранение. Если государственное хранение — это проще. А если архив ФСБ — это по-другому. А если архив Министерства внутренних дел, то тут... никак.

И вот этот поиск, он всегда очень многослойный получается. Сравнительно недавно мы с одной девушкой, которая стала уже за это время хорошей знакомой, мы с ней искали, я думаю, года четыре и написали запросов, вот я боюсь перепутать, не то 78, не то 87. Потому что идет поиск уже на ощупь, совсем на ощупь.
Там была интересная история, потому что она знала, что ее прадед арестован и что-то с ним случилось. Все, больше она не знала ничего, знала примерно город, где бы это могло быть. И дальше мы начали с ней искать. Ну что значит «мы»? Она меня спрашивает, куда написать, я ей пишу, куда написать, адрес и примерный текст запроса. Дальше она его как-то подправляет по-своему, посылает. Ей приходит отрицательный ответ, что сведений нет.
Но, с моей точки зрения, отрицательный ответ — это всегда ответ, это всегда информация. Понятно, что в этот уголочек мы уже сунулись, значит, расширяем поиск.
И вот так в течение многих лет, и в конечном результате ничего нет. Сведений нет, ничего нет, сообщений нет, фамилии нигде не зафиксированы. А в какой-то момент появляется информация, и за эту информацию сразу вцепляешься и начинаешь думать, что из нее можно узнать.
И мы про этого ее несчастного прадеда в результате узнали совершенно всё. И когда арестован, и следственное дело, и в чем обвинен, и какой приговор, и куда отправлен. Нашли место, куда был отправлен. Из этого места его перевели в другой лагерь. И этот другой лагерь мы тоже нашли. И в этом другом лагере — может быть, даже уже в третьем, сейчас не могу сказать точно — он умер. И нашли его лагерное дело, и нашли место, где он похоронен. Не могилу, конечно: это исключено. Нашли место лагерного кладбища. И она такая умница, туда поехала.
И в конечном результате она мне написала, что поменяла фамилию и теперь она живет под фамилией своего прадеда.
Она его никогда не видела. Но это такая степень и такой уровень причастности, такая необходимость соприкосновения и продолжение его дела. Потому что тут ведь как можно посмотреть: его растоптали, его убили, его уничтожили, жизнь его абсолютно сломана, а теперь что, я про него забыла? Я от него отказалась? Или я сделала то, что в моих силах, для того, чтобы он не был забыт?
Тут опять-таки это все же очень индивидуально. Мне кажется, что мы можем подвести некую черту, проанализировать и сказать, что человек хочет понять не про того, а про себя. «Кто я? Вот он мой прадед. Так или иначе я его продолжение». Извините за страшную банальность, но «во мне течет его кровь; если я не знаю, кто он, то как я могу про себя что-то сказать?».
Был совершенно анекдотичный случай, когда к нам в «Мемориал» пришел человек из налоговой инспекции, на проверку. Как потом выяснилось, ему сказали: «Ищи, пока не найдешь». И он сидел у нас, просто в комнате в нашей, потому что у нас мест других нет. Мы его посадили, где стул есть и стол.
Ну, первый день как-то «мммм» при нем, а потом работа идет, и дел много, и никто уже его не стесняется, и вообще на него не обращают внимания. Сидит там кто-то, ковыряется в каких-то своих бухгалтерских бумажках, ну и сиди и ковыряйся.
И через какое-то время он пришел и говорит: «Слушайте, я ничего не могу понять. Вот я тут сижу, и вокруг меня — „арестован“, „арестован“, „репрессирован“, „расстрелян в лагере“. Такое впечатление, что вообще всех».
Мы его спрашиваем: «А вы-то знаете что-нибудь про своего деда, прадеда?» «Да, — говорит, — знаю, у меня он во время войны погиб». Я так набираю: «А как фамилия?» Ну — расстрелянный, в Бутово лежит. Мы ему говорим: «А вы откуда знаете, что он во время войны погиб?» — «Мама сказала». — «Вот, понимаете, не погиб во время войны». — «Этого не может быть».
Но то, что в нашей базе зафиксировано, мы стараемся все-таки, чтобы каждая справка была подтверждена документами, пускай даже самой скудной информацией, пускай даже одна строчка, но это документ, которому нельзя не верить. Например, акт о приведении расстрельного приговора в исполнение — ему нельзя не верить.
И этот самый парнишечка при мне звонит домой и говорит: «Мама, я вот сейчас в „Мемориале“. Ты мне говорила, что у меня дед во время войны погиб, а он расстрелян». Или, может, даже прадед. Она говорит: «Да, но тебе лучше этого не знать».
Чем сердце успокоилось, чем кончилось дело, как вы думаете? Мальчик ушел из налоговой инспекции.
Тут, действительно, открываются такие пласты.
Я не знаю — наверное, это все-таки не историки, не архивисты, наверное, какие-нибудь психологи должны на эту тему рассуждать и мыслить: почему не говорим, почему не рассказываем следующим поколениям, внукам репрессированных, собственным детям или даже своим внукам и правнукам?
Тут тоже все многослойно, не так прямо. Потому что, с одной стороны, не задавать вопросы — это прямо альфа и омега. Не задавать вопросов, не говорить. «А почему вы не спрашивали у своей мамы?» — «Так понятно было, что нельзя спрашивать». Я говорю: «Ну, как было понятно? Она вам объясняла, да?» — «Ну, зачем это объяснять? Это же в атмосфере носится». Это во-первых.
Во-вторых, всех нас, и я сама этим грешна, всех нас учили: все, что происходит дома, на улице не говорить. Вот дверь закрыта. Это наш мир, а это чужой. Он враждебный, к нему нельзя идти с открытой душой.
Я вам даже должна сказать, что сравнительно недавно у меня была моя собственная травма, потому что, как выяснилось, я своим детям говорила то же самое. Я, может быть, это делала неосознанно, но меня так научили. И какое-то время тому назад ко мне пришел мой младший сын и сказал мне: «Слушай, а вот ты мне всегда говорила, что то, что у нас происходит, рассказывать никому нельзя». И говорит, что он это рассказал своей жене: что у нас происходит дома, рассказывать никому нельзя. Она его спросила: «А почему?» И он не знал, что ответить. И он пришел ко мне, и я не знала, что мне ответить, кроме того, что я вот рыдала в три ручья.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Как архив меняет мировоззрение и представления о прошлом.

Вообще, я совершенно не архивный человек. Более того, я не был архивным историком в том смысле, что я учился как историк, но, тем не менее, у меня не было вот этого религиозного и даже научного представления, что только из архивов я что-то смогу понять или что без архивов я профессионально неадекватен. Но так получилось, что, когда я делал одну штуку в «Мемориале», я попал в Государственный архив, где лежат следственные дела на политических обвиняемых за все советское время. Там корпус — больше чем на 100 000 дел. И это не то что произвело на меня какое-то впечатление, это просто фундаментально изменило мое представление о том, что нужно думать про мое собственное прошлое, про советское прошлое, про всю эту жизнь. И вот с тех пор я про это в разных режимах все время думаю.
Большая часть таких дел лежит в архивах ФСБ в разных регионах, и к ним доступ есть, но очень ограниченный. Нужно специально доказывать или родство с человеком, чье дело ты смотришь, или специально писать запрос, и тебе запретят дело копировать, если ты не родственник. Контакт с таким делом тогда будет довольно ограниченным по времени, и не все можно будет сделать.
А в ГАРФе это прямо поток. Это одно из очень немногих мест русскоязычных, где такие дела вообще доступны. То есть тут очень важно, что я этих дел видел уже десятки тысяч. И, собственно, про что я думаю рассказывать...
Я скажу еще одну общую штуку про внешнюю рамку, мне кажется, это важно. Я думаю, самое первое, что меня поразило, — это идея того, почему эти дела еще хранятся. То есть дела на людей, которых обвинили по политическим статьям, в основном по 58-й статье. На этих делах стоит гриф «Хранить вечно». Про разных, никому не известных людей. И единственное, что мы о них знаем, заключено в папке, которая была создана для того, чтобы обвинить их в преступлении.

Причем очень часто это люди даже не письменной культуры. Это люди, которые и записать бы про себя ничего не смогли, это люди, которые ставят крестик вместо подписи под своими показаниями. И моя первая человеческая, литературная, спонтанная реакция была такая: я увидел грандиозную советскую теорию заговора. Это гигантский заговор: огромное количество предполагаемых врагов, которые опутали всю нашу жизнь и которые вредят. Гардеробщица работает в сельском клубе, и ее обвиняют в том, что она, вешая, как у Зощенко, пóльты партийных, комсомольцев, туда бросает свои волосы, в которых есть вши: она пытается завшивить их пальто. И в деле есть конверт, в котором лежат ее волосы и экспертиза, есть ли там вши. Вот от такого — до дела о парне, который во время допроса каким-то образом изловчился (это крайне редкий случай) выскочить из кабинета, выпрыгнуть из окна и попытаться покончить с собой. Но он не погиб. А дело продолжается, и в деле есть фотография этого разбитого окна.
Люди переплетаются друг с другом. Потому что вообще логика, прагматика следователя — в том, чтобы не одного человека взять, а «раскрыть» группу. Это так работает, это эффективнее, это с точки зрения продвижения по службе более правильно. Поэтому один человек в идеале должен цеплять за собой три, пять, десять других. И если ты читаешь последовательно, то ты видишь, как эти сети расходятся и кто с кем связан.
И третье — у меня все время было ощущение, что это какое-то бесконечное повторение, проговаривание темы о том, что мы все время в чем-то виноваты, что есть какая-то огромная вина, которая нас тяготит очень сильно. Мы — герои этих дел. И мы все время должны каяться или, наоборот, защищаться от того, что мы какие-то не такие.
Вот эти три сущности, если собрать их воедино, дадут какое-то представление о том, что это было за прошлое и что из этого прошлого мы взяли в свою нынешнюю жизнь. Это такая общая рамка к любой истории, которую я могу вам сегодня рассказать.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
История Нины Гневковской, которая сначала терпела ухаживания Берии, попала за это в лагерь, стала следователем прокуратуры и преследовала диссидентов, а затем потребовала признать себя жертвой политических репрессий.

Это история женщины, которую звали Нина Гневковская. Узнал я про нее так: мой коллега по «Мемориалу» попросил меня проверить по каталогу ГАРФ, нет ли ее дела в том фонде, где я работаю. Она известна в некоторых записках диссидентов как следовательница, которая приходит на обыски и очень таким специальным образом себя ведет. Она характерная, не такая, как другие. И я нашел ее дело. И, соответственно, если я нашел ее дело, значит, она там фигурирует не как следователь, а как обвиняемая. И оказалось, что она, будучи молодой девушкой, в конце 1940-х годов была частью круга послевоенной золотой молодежи. Тех людей, которые либо были детьми привилегированных родителей, либо так или иначе оказывались в том кругу, где всякие трофейные штуки вертелись. То есть ранний американский джаз, одежда, все эти рестораны при гостиницах в центре Москвы.



Дело начинается вот так, а с какого-то момента это сваливается в историю о том, что на нее положил глаз Берия, что адъютант Берии ее преследовал и в конце концов она оказалась у Берии в его загородном доме, где он ее изнасиловал. В деле это очень интересно описано. Там ни разу, собственно, прямо не говорится о сексуальном насилии, но есть куча сложных фигур умолчания. В общем, мы понимаем, что у нее были отношения с Берией довольно долгие. И дело заканчивается, как и всегда такие дела заканчиваются, обвинительным заключением. Обвинительное заключение против нее в том, что она клеветала на некоторых членов советского правительства. То есть это как бы эвфемизм в отношении Берии. Речь идет о том, что ее насиловал Берия, а она в кругу своих друзей об этом говорила, и это становилось известно. Слухи об этом шли. Дальше она оказывается в лагере. Этого уже в деле нет.
В общем, у меня было две точки отсчета.
Каждая из этих историй производила на меня очень большое впечатление. Я думал, что надо попробовать в обе стороны посмотреть. Дальше мы смогли реконструировать вот эти лакуны: до и после. И мы нашли мемуары Нины Гневковской в лагере, где речь шла о том, что она, вообще-то, вела себя в лагере не то что хорошо, а, с точки зрения политических заключенных того времени, как бы правильно. То есть о ней уважаемые в диссидентском кругу люди потом писали, что, в общем, она была хорошая девушка, никого не подставляла. Работала на кухне, что довольно блатная работа, но при этом не пользовалась этим слишком вопиюще, как могла бы, как делают люди с такими привилегиями.


Соответственно, мы таким образом получили уже трехстороннюю картину. То есть сначала она молодая девушка из золотой молодежи, потом она в лагере и ведет себя как бы хорошо. А потом она (после смерти Сталина, реабилитации, и даже, видимо, ее показания включены в большое дело против Берии), еще буквально десять лет спустя, она уже следовательница прокуратуры. Тут, правда, надо иметь в виду, что даже уже в анкете в ее следственном деле написано, что она училась на юрфаке. То есть, в принципе, карьера у нее в какую-то эту сторону была повернута и она не случайно была в этом кругу достаточно обеспеченных молодых людей, потому что ее отец тоже работал, кажется, не в органах, но в прокуратуре. А дальше грандиозный поворот.
То есть она себя еще раз, уже спустя какое-то время, идентифицировала как жертву, а не как следовательницу. И дальше мы думали об этом. О том, что это все одна и та же Нина Гневковская, которая претерпевает вот такую эволюцию, или, скажем, что она мимикрирует под то, что кажется наиболее понятной общественной нормой в каждый период времени.
Но потом мы поняли, что это тоже не конец. Потому что существует ее интервью в телевизионной программе, политическом шоу начала 2000-х годов, которое было посвящено 1968 году и выходу семерых на Красную площадь. Гневковская вела на разных этапах два дела этих людей. Она встречалась с Ларисой Богораз, и она вела более раннее дело Вадима Делоне. И там есть ее телевизионное интервью, и она ничего не говорит про то, что она сама была жертвой. Она говорит: да, я вела дело, и вообще сейчас про это не принято говорить, но все эти диссиденты, конечно, они работали на Америку, они совершенно продажные, циничные люди, никаких у них не было идеалистических взглядов, все с ними понятно.
Еще один поворот в ней произошел, или мы еще раз увидели ее с этой стороны, что для нее довольно естественно было в начале 2000-х, в принципе, быть уже в таком раннем путинском нарративе.

Конечно, это довольно редкая история, потому что такое количество превращений отследить редко удается. Но при этом я все время обращал свое внимание, насколько то, откуда мы берем эту информацию, и то, как эта история рассказывается, дает нам возможность увидеть в одном и том же человеке такое количество классических советских сюжетов: «О, это злой следователь» или «О, это несчастная жертва, которая должна быть реабилитирована и которая должна иметь всевозможные права» и так далее. Видимо, вся сложность таких историй заключается в том, что это в полной степени никогда не то и не другое.
Есть, кстати, очень хорошая, важная такая презумпция, которую израильский профессор Игал Халфин очень хорошо описал. Он говорит, что в деле, по сути, есть реальный человек, с которым это все происходит, а еще есть персонаж дела, у которого такое же имя, как у этого человека, но он фигурирует внутри дела, по сути, как литературный персонаж. Я стал на эти дела тоже смотреть как на романы соцреализма по сути.
Но про Гневковскую это правда очень интересно. Ведь ее дело очень… не сказать, что оно грязное, но оно очень сильно апеллирует к тому, чтобы ее эмоционально и морально уничтожить. В деле против нее очень много разговоров о том, что вот она там гулящая девушка, что ей там 19–20 лет, она встречается с парнями где-то в «Астории» или в «Метрополе»... Это очень клишированный советский способ [травли], что ты не просто политически разложился, ты морально разложился. И они прогоняют ее через все эти вариации морального разложения. И ее отношения с Берией, они, конечно, тоже очень сильно подчеркивают моральность этого вопроса, который, как мы, вообще-то, сейчас понимаем из многих историй про насилие, — это всегда страшно уязвляет человека, с которым это происходит. А когда амплуа меняется, и в допросах, которые я видел… или даже я не всегда видел сами ее допросы, потому что диссидентские дела достать целиком гораздо сложнее, но, например, в первом деле Вадима Делоне, которое она вела, там я сразу обратил внимание на то, что она говорит очень много не о том, что он, собственно, сделал, а о том, что у него какая-то связь непонятная с молодой девушкой. Об этом даже она, кажется, говорит потом с его родителями. И я в этом уловил очень похожую такую штуку, что на самом деле она, по сути, использует близкую очень тактику.
И мне показалось, что это совершенно не случайно. Потом в разных описаниях ее поведения на обысках, например, отмечают, что она всегда приходит на обыски очень красиво накрашенная, в хорошей одежде. Кажется, Людмила Алексеева писала, что она смотрела в шкаф и говорила: «Ну что это у вас здесь висит одно пальто? Где эти все ваши американские деньги? На что вы их вообще тратите?» Это представление о презентации себя как сильной женщины, как такой сексуальной женщины.
Если я правильно понимаю, у нее не было детей и она, кажется, никогда не была в браке. То есть все вещи, связанные с ее каким-то моральным сломом из начала истории, они по-разному проявлялись в более позднее время.
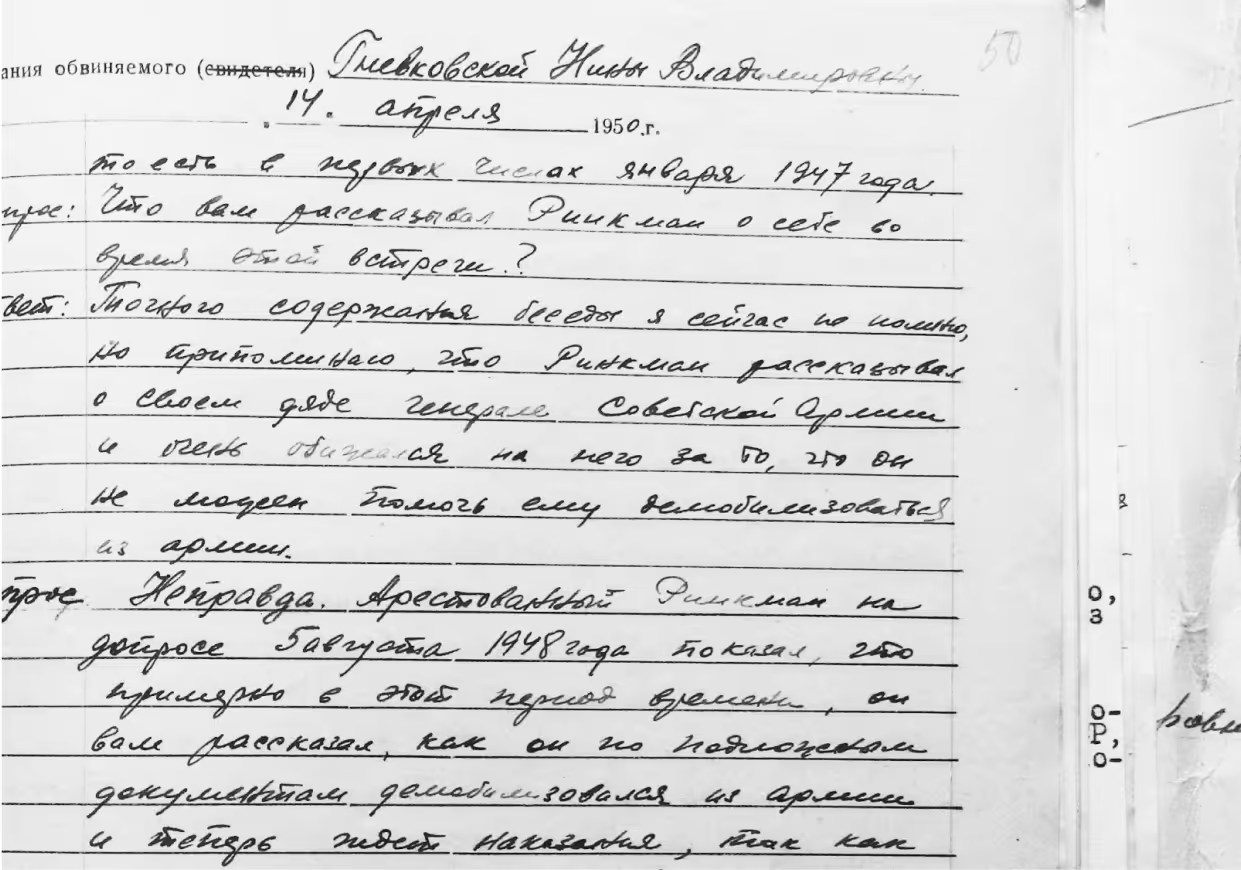

Конечно, я слишком сильно психологизирую, и мы об этом тоже спорили: стоит ли, например, нам думать или говорить, что то, что с ней случилось в начале, что мы видим в следственном деле, вот это описание ее падения — что это в какой-то степени объяснение того, что потом она сама стала ломать людей и поменяла амплуа? Это, пожалуй, для меня слишком сильное и сложное заявление. Это большой вопрос, можем ли мы так говорить.
Но что, мне кажется, мы можем говорить, именно на основе документов, это то, что я бы называл созависимостью следователя и того, с кем он говорит. То есть они на самом деле как бы оперируют... работа идет внутри одного языка, одной и той же системы ценностей, в которой моральное падение совершенно уничтожает человека. Это все страшно разрушительно.
И потом она сама 20–25 лет спустя оборачивает такие же аргументы против молодых людей, которые протестуют уже в совсем другое время.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Почему следственные дела политических заключенных — феноменальный источник по истории быта и духу времени.

Следственные дела политзаключенных — это, по сути, феноменальный источник по всему быту, по всей текстуре того времени. Там внутри в зависимости от ситуации может оказаться что-то, что абсолютно не должно было бы там быть, и что-то, что ни при каких условиях, никаким другим способом не сохранилось бы. Это как, что называется, капсула времени. Кто-то закопал, а потом, 50 лет спустя, вдруг ты пришел, открыл, а там такое.
А дальше вопрос в том, под каким углом на это посмотреть и как с этим работать. Про себя точно могу сказать, что я огромное количество вещей узнал или понял про советскую повседневность из этих дел.
Это все-таки очень специфический тип [источников], и описывается именно преступление политическое, то есть почти духовное. Даже само описание преступления может предполагать вот эти все супермелкие необычные детали.
Например, когда мы пытаемся дела анализировать и их описывать, у нас есть такая анкета их вещественного описания. Именно потому, что мы довольно быстро поняли, что фабулой обвинения вообще ничего не ограничивается, как раз обвинение может быть шаблонным и ход следствия может быть абсолютно шаблонным. А внутри находятся вещи, которые работают иначе, и просто надо к ним правильно задать вопрос или вообще увидеть их хотя бы для начала. И понять, что это вообще, может быть, не про то.
Вот трамвайный кондуктор пришел в столовую, и ему там не понравился суп. А потом он сказал:
А это редкий очень кейс, потому что это отдельная статья, 154а. И таких дел довольно мало есть в открытом доступе, особенно если человека потом за это и реабилитировали.
И вот дальше из-за какого-то совершенно другого сюжета мы получаем справку об этом поваре, что он плохо отзывается о комсомольцах, все время козыряет своим партизанским билетом, занимается мужеложеством и как кулинар ничего особенного из себя не представляет. Точка.

Вот такой пример как бы наложения разных реальностей и сюжетов: политических, неполитических — в одних и тех же обстоятельствах.
Все эти люди, за минимальным исключением, абсолютно неизвестны. Но главная проблема в том, что мы видим их изначально только как акторов какого-то преступления, они являются фигурантами дела о преступлении. И дальше наша работа и наш интерес в том, чтобы попробовать размотать эту историю так, чтобы они... То есть можно, с одной стороны, посмотреть совсем буквально и увидеть в них жертв советского террора. И есть общий такой нарратив, представление, что вот жертвы — это важно, они ни в чем не были виноваты, мы про них говорим. Но следующий шаг — это попробовать, раз уж так получилось и об абсолютно неизвестном человеке осталось материала на 100 страниц, иногда довольно-таки «изысканного», постараться из него увидеть что-то, что следствие не предполагало для нас как материал. То, что мы сами можем с помощью разных вопросов из этого вытянуть.
И это, пожалуй, мое самое любимое. То есть я вообще не про советский террор, я про людей. То есть мне интересно про них гораздо больше, чем про машинерию. Потому что эта машинерия, она уже сейчас, в принципе, неплохо описана. Это как раз «Мемориал» сделал очень хорошо уже.
А вот про применение этого на конкретных людях — это бездонная проблема, потому что людей нет одинаковых. Дела есть почти штампованные, люди разные все.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Следственное дело как источник информации о людях, находящихся «за рамками любого повествования».

Бывает материал по людям такой культуры, которые вообще никуда не попадают, которые находятся за рамками любого повествования. Потому что это люди, которые сами не могут писать ничего, не оставляют ни мемуаров, ни свидетельств.
И вот есть у нас такое дело про крестьянина — в начале второй пятилетки, в какой-то деревне под Москвой. Начинается дело буквально с того, что по деревне бегает собака и на ней табличка с надписью: «В конце пятилетки съедите и меня, детки». Понятно, что это про голод. То есть нужно выполнять план, но страшная нищета в деревне и голод.
И вот в деревню приезжает партийная комиссия из центра, которая должна посмотреть на урожай, и крестьяне должны перед ней отчитаться, насколько все хорошо и как все перевыполнено. И дальше происходит событие, которое, собственно, и является содержанием дела.
И дальше, когда это становится известно (а это довольно быстро становится известно), это воспринимается как антисоветское действие, преступление, что он накормил их собачатиной.
Само дело ужасно интересно как политическая интерпретация этого действия. То есть там речь идет о том, что вот, например, эти самые партийные люди были опозорены и за ними потом бегали дети по деревне и лаяли. Или их называли «собачники», потому что они были опозорены тем, что их накормили собачьим мясом.
А с другой стороны, кажется, что это была демонстрация со стороны этого крестьянина: мы так плохо живем, что мы не можем вам ничего другого приготовить, кроме этой собаки.
Но просто сам тип действия меня очень привлек. У него есть, конечно, своя предыстория. То есть накормить собачатиной... Там даже есть такие детали, что они сначала не понимали, что это за мясо. Они спрашивали его: «Что это за мясо мы едим?» — «Я вам потом скажу, поедите и узнаете». Дальше есть буквально заключение ветеринара, что по костям, которые остались, можно понять, что это собака.
Дальше мы находимся в пространстве интерпретаций: что в этом действии увидел или мог увидеть этот крестьянин, эти партийные, которых накормили, эти дети... Вот это, кстати, наиболее понятный мотив — что это было опять формой умаления, издевательства над властью. Это просто издевательство — накормить их собакой, чтобы унизить их в глазах всей этой деревни.
То, какие смыслы возникают и как они описаны в этом деле, и что является фабулой, фактурой обвинения, — это дает нам, возвращаясь на большой уровень обобщения, проблему вообще понимания, декодирования:
И, конечно, я сразу подумал, что у этого есть какой-то культурный бэкграунд. И что очень интересно — очевидно, это делал человек совершенно неграмотный. Я не буду преувеличивать степень его неграмотности: кажется, у него даже было несколько классов образования, — но это не человек, который читал античную литературу и знает какие-то истории про то, кого чем накормили. Человек не такой сложной культуры, который вряд ли мог знать семантику такого действия.
И поскольку я еще часто соизмеряюсь и занимаюсь Шаламовым, то я вспомнил, что у Шаламова есть рассказ «Выходной день». Там речь идет о священнике, который, находясь в лагере, пытается все-таки в воскресенье провести молитву. А потом его блатные кормят, говорят: «Поешь с нами». Говорят, что какой-то телятинки вдруг они достали. И когда он поел, они ему рассказывают, что они убили щенка, которого этот священник подкармливал. В общем, его друга они убили. И после этого ему становится плохо, его рвет и так далее.
Это прекрасный рассказ, и есть очень хорошее его литературное семантическое описание Елены Михайлик: она в основном фокусируется на том, что это, конечно, описание черной мессы и вот этой подмены, что ты говоришь, что ты ешь агнца, но на самом деле ты ешь собаку. Тут есть такой момент опять такого, скажем для простоты, макабра.
Я пытался по-разному посмотреть на то, как это проявляется в этом следственном деле. Разные способы объяснения того, почему накормить собакой приехавших партийных мужиков — это политический акт.
В итоге заканчивается тем, что он получает пять лет лагеря.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
люди и пытки
Как карательная система расчеловечивала людей и при чем тут Шаламов.

Было у нас одно дело про молодую девушку 19–20 лет, которую арестовали практически буквальным образом за дискредитацию советской армии. Она была медсестрой в какой-то военной части летом 42-го года, а потом ее направили обратно в тыл. И она, оказавшись среди своих сверстниц где-то в Москве или в Подмосковье, стала рассказывать, что она видела, что все отступают, оружия нет, целые деревни сдаются. И вообще, в принципе, немцы не так уж ужасно себя ведут. Она даже прошла через какую-то часть оккупированной территории, и ее не тронули.
Все это становится материалом для ее обвинения. Она все отрицает и говорит, что это неправда, что меня оговорил какой-то солдатик, который был в комнате, вовсе я этого не говорила, а, наоборот, говорила, как советская армия пытается всех защитить.
А дальше следователь пытается ее поймать на лжи. И он говорит, что вот у вас написано в анкете... А вообще очень важно увидеть человека сначала через его анкету арестованного — две страницы, где он отвечает на такую классическую советскую анкету: фамилия, имя, отчество, место рождения, происхождение, кто были родители, партийность. В общем, многие такие константы задаются уже там. И у нее в этой анкете написано, что она сирота, что ее воспитывали в детском доме.
И вот следователь говорит: «Вы сказали, что вы сирота. Но вы же обманываете следствие, потому что мы нашли ваши письма к отцу и ответы вашего отца к вам. Я вас изобличил, значит, и в остальном вам нет никакой веры».
Следующий допрос начинается с того, что следователь возвращается к этой истории, говорит, что вот вы нас обманываете, потому что мы нашли фотографию вашего отца, вот этот человек. А она говорит: «Это не мой отец. Это я работала уборщицей в конторе, и там была картотека с фотографиями. И мне в какой-то момент было нужно представить себе, кому я пишу и от имени кого пишу. И я взяла эту фотографию и придумала, что это мой отец». В деле есть эта фотография, и она у меня даже висит сейчас дома, потому что я хочу как-нибудь про нее подумать.

И дальше она рассказывает, что она жила в общежитии и что в какой-то момент это было частью ее... то есть она, по сути, погрузилась в какой-то придуманный мир, она стала получать письма от своего отца и читала другим девушкам в общежитии. И письма очень хорошие. Письма тоже есть в деле.
И это очень сложное чтение. Я стал думать про вот эту как бы разлюбленность. Что там важно: они упоминают ее мать в письмах, но писем от матери нет. И отец все время пишет, что мама болеет и так далее.
Но если смотреть на это совсем строго источниковедчески, стопроцентного ответа у нас нет. То есть, возможно, есть отец, и все-таки это письма от отца. Я думал в какой-то момент, что надо попробовать графологическую экспертизу... Потому что там видно, что это другой почерк, но, может быть, можно таким образом почерк поменять, или она кого-то другого просила это записать. В принципе, письма отца выглядят довольно подозрительно. Они выглядят как чистовики и скорее похожи больше на сочинения на какую-то заданную тему, написанные в тетрадке.
Где здесь правда, где ложь? То есть следствие пыталось ее поймать на какой-то лжи по поводу того, что она говорила про армию. И тут я, конечно, возвращался к этой теме, что она страшно одинокая и страшно несчастная и что она ищет какую-то внешнюю опору, чтобы кто-то с ней вступил в какой-то разговор, в диалог.
В общем-то, становится понятно, зачем она вообще болтала про то, что там с ней было на фронте. Это тоже дает некоторое представление о ней просто как о человеке, которому очень важно публичное внимание, что она рассказывала — и была центром внимания.
В делах, конечно, таких эмоциональных вещей не так мало.
Почему я думал именно про разлюбленность и откуда у меня это слово? Оно у меня родилось, когда я занимался Варламом Шаламовым, его циклом «Колымские рассказы». У него есть рассказ «Детские картинки». Не очень типичный для него, там практически нет действия. Его лирический герой находит в мусорной куче рядом с лагерем детскую тетрадь. И он думает, как ее можно было бы использовать: может быть, на самокрутки, еще что-то. А дальше он смотрит на картинки в этой детской тетради и вспоминает, как он сам рисовал и что это за рисунки в детской тетради, как этот ребенок рисует вот этот мир, в котором они все находятся, и что это за мир такой.
И дальше Шаламов говорит, что он вспомнил северную легенду о боге, который создал вот этот северный мир, Колыму. Этот мир был очень чистый и очень простой, там было два-три цвета, все было очень голо. А потом он понял, что это слишком просто, слишком примитивно, и он забыл этот мир, он его бросил и ушел на юг, и стал делать что-то более сложное. И остался вот этот разлюбленный, забытый мир, где холодно, плохо, где только два-три цвета, где вообще люди жить не должны. Именно в этот мир — забытый, разлюбленный, никому не нужный — отправили вот этих политических заключенных. Как бы мы их всех разлюбили, они нам не нужны.

И, в общем, так действительно можно описывать то, что с этими людьми в следственных делах случилось. То есть им говорят: «Вы теперь не такие, как мы, вы нам не товарищи, вы враги, вы не братья, мы от вас отрекаемся». — «Нет, я не враг, я такой же, как ты, я хочу быть с тобой вместе, следователь, в нашем общем этом советском мире». — «Нет, ты не такой теперь, ты не один из нас. Мы лишаем тебя права быть равным с нами человеком. И после этого мы можем с тобой делать много чего, мы можем тебя, в принципе, и пытать».
Мы сейчас довольно много занимаемся свидетельствами про пытки на следствии, потому что есть такая формула Арсения Рогинского: он говорит, что самого важного в протоколах нет. И про пытки очень мало написано в деле, потому что они не фиксировались. Их можно только косвенно увидеть иногда или предположить.
Время начала допроса — 9 вечера, время конца допроса — 7 утра следующего дня. А протокол допроса — полторы страницы. Что происходило 10 часов? Непонятно.
Но мы поняли, что если специально отслеживать эти сюжеты, то, во-первых, в материалах о реабилитации в 1950-е годы или иногда даже в материалах, которые человек пишет уже из лагеря с требованием пересмотреть свое дело, встречаются описания пыток.
Когда человек описывает, почему он вынужден был подписать показания — совершенно сверхъестественные вещи. Все, что вы можете себе предположить и представить, очень кинематографическое — там происходило и не такое даже. Человек описывает пытку, что его просто очень долго держали, бесконечный марафон допросов. А потом его не отправляли в камеру, а следователь запирал в шкаф в своем кабинете. И он вынужден был слушать, как пытают следующих. И то, что он просто продолжал все время там находиться, в конце концов его сломало.
Ты находишься с человеком, а он ведет себя с тобой, как будто ты не человек. Ты разлюблен, ты не такой, как я, я могу с тобой сделать все что угодно. Тебе никто на помощь не придет.
Этих примеров очень много, и они на уровне языка прямо проявляются. То есть это такая, с одной стороны, жалость к себе, а с другой, такое вопрошание: что же случилось? Что это за такие люди, несоветские, эти следователи, как они лишили меня права быть вот вместе с вами? Как такое может быть допущено?
Самое впечатляющее — у нас есть текст человека, который был адвокатом в конце 1930-х и поэтому он очень четко знает, что есть в нормах. И он пишет в приемную НКВД: «Это абсолютно вопиющая вещь, вы должны с этим что-то сделать. Я просто вижу, как разрушается сама основа всего нашего этого советского строя».

Я про это стал думать, когда читал книгу Жана Амери «По ту сторону преступления и наказания». Это книга человека, который пережил нацистские лагеря. И там главное описание — это пытка.
И он говорит, что пытка — это такая вещь, из которой ты уже не сможешь потом выйти. То есть, если с тобой это случилось, преодолеть ее как переживание, как травму для него, например, невозможно. И он говорит, что, если бы все-таки можно было что-то сделать, если бы мне сказали: а что бы меня освободило бы? Меня бы освободило бы, если бы я мог вместе со своим палачом отправиться в прошлое и чтобы этот палач в этом прошлом мне посочувствовал. Признал бы меня человеком в процессе этой пытки и сказал: «Мне очень жаль, что я это делаю».
И он говорит, что отчасти меня с этим примиряло то, что я знаю: часть этих палачей были потом судимы и расстреляны. И он говорит: «Я думаю, я надеюсь, что, может быть, в самые последние моменты они думали: „Жаль, что я все-таки это сделал. Наверное, не надо было“».
Это, конечно, не совсем то, но хоть что-то. То есть как бы вернуть тебя в мир людей, вернуть тебя в мир тех, с которыми так поступать нельзя.
Вот для меня это тоже про то же самое — про принятие, про разлюбленность такую.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Как палачи Большого террора сами становились подсудимыми.

Мы смотрели некоторое количество дел следователей в 1939 году, которые сами активно работали в 1937-м и в 1938-м. Здесь они были обвиняемыми. В очень классическом советском ключе. Почему они были обвиняемыми? Потому что, естественно, проблема была якобы не в том, что вся политика была неверная и террор был ошибкой, а в том, что были злоупотребления, были враги внутри системы. И вот сейчас мы будем расправляться с врагами... Естественно, в основном враги — это следователи на местах, которые занимались «перегибами».
Многие из таких следователей реагировали очень остро, потому что они знали, что с ними сделают. Есть описание попытки самоубийства. Потому что когда ты понимаешь, что ты это не переживешь, и выхода нет...
Я не очень понимаю, что это значит: отламывал решетки, что ли, от пружин. И он выжил. Советский следователь, который ест собственную металлическую кровать и в 50-е годы еще реабилитируется потом.
При этом те следователи, которые вступают в диалог, они оказываются теми же самыми обычными обвиняемыми с той же системой координат, но более четко знающими, что им нужно говорить. То есть следователи, о которых я читал, отсылают к конкретным вещам: «Вот ведь было же такое постановление, мне вот говорили, что так надо».
И эти дела ужасно интересны, потому что они описывают реальную фактуру. Буквально: «Я тогда был на допросе, я бил человека и шел потом к телефону, мне звонили, говорили: „Ломай его“». Это же было, это же так работало.
Мол, извините, конечно, так надо было делать, такие были правила. И рефлексия по поводу того, что теперь это будут делать со мной: произошла ошибка, не делайте так со мной, я этого не заслуживаю.
Но есть у меня один следователь, за которым я специально слежу. Он вел несколько феноменально интересных дел, и было видно, что он делает на них карьеру — следователь по фамилии Павловский. Он сделал большую довольно карьеру, а потом сам в начале 1950-х годов был арестован. Потому что было антиеврейское дело внутри... тогда это называлось МГБ.

Он больше года был под следствием, и этих материалов я не видел, очень интересно было бы посмотреть. Но есть партийная справка о том, что с ним случилось после того, как он год был под следствием.
Его отправили в знаменитую Казанскую психбольницу, где многие политзаключенные сидели. Горбаневская, Григоренко, и Новодворская там была. Вот он был в этой Казанской психбольнице, у него отказала часть туловища, рука перестала его слушаться — в общем, у него случился некий огромный ментальный сдвиг по поводу того, что с ним произошло.
Характерно, что он вел несколько дел о людях, которых в конце концов признали сумасшедшими. Или поведение этих людей трактовалось в итоге потом как сумасшествие.
Этот следователь мне показался очень экспрессивным, почти театральным, потому что он вел дела, связанные с искусством. И потом про него, собственно, ходили слухи, поскольку он был довольно-таки известный следователь в последние годы, про него ходили слухи, что он умер в Казанской психбольнице.
Но он не умер, на самом деле, потому что мы нашли его урну на Донском кладбище. Совсем точной справки у меня нет, но мне кажется, что он попал в Казанскую психбольницу, а потом через какое-то время вышел. И умер еще пять, шесть или семь лет спустя.
Тоже известная черта времени: куча народу, против которых Павловский работал, лежит на Донском кладбище, а рядом сам этот следователь Павловский прекрасно пристроился в ячеечке. После смерти они все выстраиваются в какую-то новую иерархию.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Абсурдное дело элитной психбольницы, в которой лечилась верхушка советской власти.

Это абсолютнейший блокбастер, так называемое дело психбольницы «Сокольники». Середина 1930-х годов, первая половина.
В Сокольниках, в лесу, есть полусанаторий-полупсихбольница. Там лечится много партийных: нервный срыв, алкоголизм, разочарование в том, что мировая революция не состоялась.
И возбуждается дело против врачей этой психбольницы. Выясняется, что они называют разные отделения больницы политическими названиями. То есть отделение для буйных называется «Политбюро», другое отделение — «Совнарком», потом «ВЦИК» (Всероссийский центральный исполнительный комитет). И врачи распределяют больных по этой иерархии:

Абсолютнейший, невероятный макабр. Когда мы про это писали, я использовал, конечно, идеи Дмитрия Сергеевича Лихачева и его историю про кромешный мир. Есть мир, который такой же, как наш, только там все перевернуто. И вот эта психбольница в Сокольниках — там партийные по степени безумия и сумасшествия выстраиваются в другую, карнавальную иерархию.
Частично это дело ведет вот этот следователь Павловский (см. историю «Следователь ел детали от своей кровати»). Дело ведется против женщины по имени Нина Чебарина, практикующего врача в этой больнице. Обычный врач невысокого уровня. Сначала дело ведется и против главврача, но главврач оказывается очень известным человеком. Это такой доктор Кириллов, который дружил с одним из братьев Ленина, со старшим Ульяновым. Хотя против него есть показания, с него сразу снимаются все обвинения, потому что он, видимо, значимый для власти человек, и они его не трогают. А вот на уровне врача, которая признается, что да, что-то такое у нас говорилось, а я это не останавливала и даже сама повторяла, — против нее дело продолжается.

Попутно там невероятной совершенно силы есть описание самой этой психбольницы. То есть как практиковалось это политическое сумасшествие. Один из моих любимых персонажей — Сергей Константинович Минин. Это человек, который был рядом со Сталиным во время обороны Царицына. Причем он был настолько важный партийный человек, что, собственно, было две версии по переименованию города. Выиграл «Сталинград», но Минин сам предлагал «Мининград».
Есть интереснейшие его записки и дневники, и вообще он потрясающие вещи делал. Например, он участвовал в театральных постановках в этой психбольнице «Сокольники» и там он очень антисоветские вещи высказывал. И, по показаниям свидетелей, все очень смеялись. И главврач тоже очень смеялся. А шутки были, например, что Сталин и Енукидзе, цитата, «педерасты», и всякие другие интересные вещи, и все это в больнице разыгрывалось.
И дальше мы отслеживаем ее траекторию, и она попадает частично даже в те же больницы, поскольку их в Москве не очень много, где часть ее коллег теперь ее лечащие врачи. А дальше мы знаем, что она попадает в разные психиатрические трудколонии, где опять начинает немножко работать и как врач тоже. И последнее, что мы о ней знаем, — это справка уже 1950-х годов, когда она полностью восстанавливается в правах и опять становится врачом психбольницы. То есть она проходит полный круг от врача до пациента и потом опять до врача.
А дальше, когда мы узнаем, что и следователь Павловский сам потом будет признан сумасшедшим, это, конечно, картину делает еще более законченной. И это опять к вопросу о том, почему это дело такое для меня важное — потому что тут тестируется вся вот эта система: заговор, вина. Она проходит уже прямо по этой границе, мы можем видеть, что это мир отчасти просто сумасшедший, что вот эта вся система — ее можно увидеть как систему просто безумия.
А это, в принципе, ведь довольно легитимное и возможное объяснение того, чем, в принципе, был террор. То есть это известный такой троп, что мы просто не понимаем, что произошло. Это как массовое помешательство. Почему вдруг людей начинают арестовывать, откуда вырастает это огромное количество обвинений, что это за мир такой? И в этом смысле, конечно, политическое дело в психбольнице — это такой почти case study. Хотя тут важно, что это все-таки сравнительно раннее дело, это 1933 или 1934 год.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Белые перчатки, карандаш вместо ручки и любовь к именным указателям.

Главное, все те, кто у меня были помощниками, по-моему, ни один человек не остался у меня в друзьях. Нет, я, конечно, преувеличиваю, но, в общем, надо быть мягким человеком. Мягким в общении с людьми, не надменным, а у меня появляется надменность.
Учить архивному делу — только в руках с бумажкой и чтобы сам человек чего-то делал. И главное, чтобы он увлекся. Чтобы возникло любопытство, азарт.
Вот мне прислали в подарок документы — крестьянские бумаги, из Костромской области. И там фотографии. Смотришь: 1937 год, 1939-й — какая одежда. И думаешь: ведь это замечательная тема. Вот, скажем, школа, дети. Такого-то года, такого-то, улыбчивые, неулыбчивые. Попробуй поискать материалы такой же группы учеников через 10 лет, через пять, через шесть — как меняются лица? Меняются ли? Из разных стран: немецкие лица и русские. В 1950-е годы, в 1940-е, 1930-е, 1920-е. Ты начинаешь ходить по блошиным рынкам и так далее...
Ну и вообще, я состою весь, почти весь, из вопросов друзей. Которые застревают в голове и на которые я пытаюсь найти ответы. Пусть этот вопрос был задан сто лет назад, другу уже неинтересно. Например, возникают в процессе работы имена людей, которые не прошли по тем же мемориальским спискам репрессированных. Ведь, как правило, там даны расстрелянные. И сколько людей осталось за бортом? Вдруг имя наконец возникло, которое когда-то где-то мелькнуло в вопросе... Вот сейчас я побегу, посмотрю польские книжки, мне нужно найти одну 1914 года книгу, которой нигде якобы нет. То есть, на самом деле, мной двигает азарт.
Когда [из документа] оживает, ну это особенно на первых порах работы, действительно оживают люди, которые, ну, наполняются кровью, не знаю, как сказать, но это само собой просто.
Потом я вам скажу, какую книжку прочитать, когда выключится [диктофон], мне неудобно говорить... где больше сказано про архивы... Сборник к моему 80-летию. Я не люблю ссылаться на такие вещи. И там переписка с Тименчиком за несколько лет, 1960-е годы. В какой архив пошел, чего делать, вот бы такую-то работу написать, сякую, а что про такого-то узнал... Жизнь в архиве. С бумажками! И когда читаешь, просто диву даешься, насколько ты был захвачен этой... Вот это и есть узнавание людей.
Основной принцип, которому я заставлял себя следовать: чтобы ни один материал из этого архива не выходил за моей подписью. Чтобы никакой монополии сотруднику института. В смысле: вот мы не выдаем эти материалы, потому что такой-то человек, исследователь, ими занимается. Это неправильно, особенно если это сотрудник института. У него никаких преимуществ не должно быть. Если ему известно об этих материалах по служебным делам, а не из общедоступных источников, значит, он использовал, ну, неправовой путь.
Более того, у меня был небольшой конфликт с моей приятельницей и соавтором прежним: я передал для использования воспоминания ректора Киевского университета Спекторского, которые считались утраченными, совершенно незнакомому человеку из Брянска. Он опубликовал их. А моя бывшая соавторша обиделась, почему не ей. Ну потому что чтобы не было вот этого самого — «по знакомству».
Если тебе жалко материал, надень перчатки. Перчатки не резиновые, желательно, а беленькие. Которые ювелиры носят, чтоб золото не прилипало. Потом, главный твой инструмент — карандаш, а не ручка. Мало ли, ручка закапает. На рукописи, если ты наносишь карандашом так называемую пагинацию, ну, не пагинацию, а фолиацию, лист такой-то, — лучше карандашиком делать. Потому что если ты ошибся, то ты это карандашное зачеркиваешь одной чертой и пишешь правильное.
Но ни в коем случае не стирай. Стирание рано или поздно отразится, а кто знает, что это значит? Вот ты пронумеровал фонд и пропустил цифру. Скажем, 56-й фонд есть и 58-й есть, а 57-й ты пропустил случайно. Пишешь: «Пропущено». И уже не перенумеровываешь. Все ошибки должны быть зарегистрированы.
Когда мы приходили в архив как читатели, естественно, зная, что куча всего засекречено, все время смотрели на цифры — что пропущено. Так же, как в законах советских: всегда смотри, какой номер стоит делопроизводственный, какой символ стоит за дробью и так далее. Все такое делопроизводство ты должен держать в голове. Потому что это огромная бюрократическая система, построенная на этих всех значках. И, конечно, архивист должен это знать, если он занимается делопроизводством государственным, ведомственным. И это ж просто интересно!
И вообще — любить читать именные указатели. Книжку читать я не буду, а по именному указателю я могу понять, про что она. Это больший ключ, чем аннотация, бессмысленная часто. Оглавление: «Приезд», «Кончина», «Снова снег». Много дает? Не очень. А именной указатель — много. Больше.
Вообще, вот есть универсалии профессий человеческих. И когда Маяковский пишет: «Я ассенизатор и водовоз», вот у меня впечатление, что архивист — это ассенизатор. Если таблицу Менделеева делать, то они в одной клетке найдутся, ассенизатор и архивист.
То есть находить, чистить, работать с материалом.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Подлинник стенограммы суда над Бродским, дневник, спрятанный в поленнице, и портфель, вернувшийся спустя 30 лет.

Если говорить об открытиях, которые я сам себе сделал, из таких, случайно-уникальных... Я стал рассматривать бумаги Копелева, которые здесь [в бременском архиве]. В бумагах его жены, Раисы Давыдовны Орловой, я увидел книжечку, ученическую, для слов иностранных. И моментально стало понятно, что это та самая, одна из тетрадок Вигдоровой, которые она вела на процессе Бродского. Оригинал. И конечно, для меня это было большим событием, открытием: в составе своего же архива — исторический, действительно исторический документ. Сама тетрадка. Их две: одна в семье осталась, у дочери Вигдоровой, а одну она подарила Лидии Корнеевне Чуковской. А Лидия Корнеевна переподарила Орловой.

И документ, который проделал такое круговое движение, — это дневник Кузнецова. Эдуард Кузнецов, осужденный за попытку угона самолета в 1970 году, приговоренный к смертной казни и помилованный. Он вел дневник. Приехала на свидание жена сотоварища, сосидельца. Рукопись заранее, микропись так называемая, была спрятана кочегаром в поленнице, дрова из которой в дом свиданий переносились. И она согласилась взять уже приготовленную ампулку, пластиковую. Она привезла ее в Москву, и оригинал дневника по просьбе Кузнецова был вручен его товарищу. И там была записка: такому-то отдать... Ну, мне фамилию лишний раз называть не хочется. И там было написано: «Витя, приготовь к отправке на Запад». И Виктор, лучший друг Кузнецова с детства, не нашел лучшего способа — он отдал мне. Я и мои друзья, Грибановы, перепечатали этот документ в нескольких экземплярах для передачи на Запад.

Рукопись была отправлена в Париж для сохранения: когда Кузнецов выйдет, чтобы ему вручили не только саму книгу, но и оригинал. И когда Кузнецова в 1979 году освободили по обмену советских шпионов на сидевших по угону самолета и еще кого-то, ему в Париже вручили рукопись.
Я был в Израиле в 1997 году, и он мне для бременского архива отдал эту рукопись. И вот это круговое движение рукописи, которую я держал в руках, когда начинал печатать и читать, — 1971 год. И она оказалась тут же.
Правда, Никита Алексеевич Струве, который передавал сюда самиздат, — мы договорились, но он не смог у себя дома найти тот машинописный экземпляр, с которого они делали книгу. А это было бы замечательно, потому что чекисты так ее и не нашли. Они ее искали.
Дневник, тоже тюремный, Кирилла Косцинского. Ленинградский переводчик, литератор. Он такой был для КГБ городской сумасшедший, вечно против, особенно в присутствии какого-то начальства. В конце концов его арестовали. И он вел дневник. Он этот дневник перед выездом на Запад оставил в Москве, видимо, у Арины Гинзбург, и она отдала портфель с этими дневниками Виктору Дзядко для отправки на Запад. И отправка не состоялась по каким-то причинам. И Виктор вручил его мне уже в 2000-м или в конце 90-х годов, в Москве. Сейчас он готовится к изданию.

Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Зачем немецкая девочка учила русский язык, как диссидентский архив выжил в постсоветское время и почему в архивной работе так важно доверие.

Это очень забавная история, потому что это моя бабушка сказала: «Выучи русский язык, мы еще будем иметь дела с русскими или по-плохому, или по-хорошему». И мне кажется, она была права...
Институт и архив были учреждены, чтобы понимать, что происходит в социалистических странах, но не на уровне государства и партии, а на уровне подпольной культуры, диссидентства, нонконформизма, подписантов и так далее. Это был единственный институт, который был ориентирован на изучение подполья.
У нас была тройная задача: собирать, сохранять материалы и литературу независимых групп, изучать, научно исследовать материалы, а также публиковать или делать доступными материалы для широкой публики. То есть не только для научного, академического мира, но и для всех интересующихся граждан. Это была наша первоначальная задача, и она не изменилась.

Цинично говоря, сейчас, когда идет война против Украины, всем понятно, что надо понимать и историю России, и сегодняшнюю Россию, и вообще как существует сопротивление против авторитарных режимов. Но были времена, когда, действительно, были намеки или попытки нас закрыть. Потому что после 1991 года показалось, что все ясно, Советский Союз стал частью Запада, зачем там больше разбираться, откуда, почему и так далее. Так что надо было всегда напоминать, какой у нас важный, уникальный архив.
Если сравнивать наш архив с немецкими государственными архивами, у нас просто совершенно другой профиль: это только самиздат и личные архивы диссидентов. То есть нет государственного материала, нет материалов правительства и так далее.
Вот в Бремене действительно такая особенная, редкая конструкция, что мы не являемся ни университетом, ни государственным учреждением, но что-то посередине. Мы под крышей правительства Бремена. Таким образом основатели хотели обеспечить, чтобы мы могли действительно самостоятельно и независимо действовать и никто не пытался нас просто закрыть.
Первый человек, который передал нам свой архив, был Лев Копелев, в 1989–1990 году. И это действительно был такой знак отличия. И все люди, которые дружили с ним или были знакомы, понимали, что, если он доверяет нам свой архив, значит, есть основание нам доверять. И действительно, наш архив строится на таких личных связях и личном доверии. Без этого мы бы просто не существовали. Доверительные отношения — это самое главное.

Для наших фондообразователей или тех, кто передает свои материалы, очень важно, что мы надежный негосударственный архив. То есть очень многие просто боялись или боятся, что если бы материалы остались в России, если бы они отдали бы материал российскому архиву, то их бы просто спрятали, или материал бы исчез, или был бы разбит на несколько частей. То есть надежность — это для фондообразователей самое важное. Они уверены, что у нас материал останется в таком виде, как они его передали, и что он открыт для исследователей, если они этого хотят. То есть если мы так установили в договоре. И, конечно, с другой стороны, если они объявляют, что материал нужно закрыть, чтобы он действительно был закрыт и никто бы не получил к нему доступ.
У нас пока нет стратегии, как мы систематически можем дальше собирать такой материал и что из материалов эмигрантов пятой волны мы будем собирать. Формы сопротивления все-таки другие, очень многое просто происходит в интернете.
Мы все равно продолжаем собирать материал. Большая часть — это еще, так сказать, старые диссиденты или представители предыдущих волн эмиграции, которые сейчас умирают, так что это... Хотя всегда говорили, с тех пор как я здесь, в Бремене — это 2008 год, — что скоро уже никого не будет. Но это уже продолжается 16 лет, и пока это не так.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Зачем детям изучать трудное прошлое и как это прошлое может работать на будущее.

Это был 1998 год, я была в Германии и увидела проект — школьный конкурс. Тема этого года была память о 1968 годе, который для Германии очень важен, вообще для Европы, а для Германии особым образом. Это был конкурс для старшеклассников, общенемецкий. Мне показалось это все чрезвычайно интересным.
Я увидела, что это на самом деле довольно широкий образовательный проект, который обращен, конечно, прежде всего к подросткам, чтобы как-то их мотивировать, и к учителям, естественно, которые должны им помогать, ну, и с включением семьи, какого-то регионального сообщества, свидетелей, людей вокруг. В общем, какой-то такой простой механизм вовлечения разных людей в занятия историей.
Тогда в России было много разных конкурсов, но они были совершенно другого толка. А мне хотелось понять: вот прошло 10 лет с тех пор, как был отменен советский экзамен по истории, потом появились новые учебники. И выросло, вообще-то, новое поколение, в какой-то новой реальности. Что они думают, чему их учителя учат, как это можно понять, через что?
Естественно, я думала про «Мемориал», потому что, во-первых, есть региональные «Мемориалы», есть прямой способ добраться до регионов.
Нам помог Фонд Форда, и какие-то первые небольшие деньги пришли оттуда. Сначала мы хотели, конечно, все-таки русские деньги.
Мы все-таки решили, что мы этот конкурс проводим, посмотрели, как это все более или менее должно функционировать, как это у немцев функционирует.
Я все время говорила: «Надо максимально упростить задачу, для России задача должна быть очень простая и очень широко поставленная».
Чего мы, собственно говоря, хотим? Мы хотим, во-первых, заинтересовать школьников российской историей ХХ века. Мы хотим, чтобы они не просто нам писали какие-то рассуждения, эссе, а научить их и показать, как можно работать с источником. Это должно было быть обязательно не эссе, а исследование. И в центре этого исследования должен был быть человек. Если это история какой-нибудь ГРЭС, то это должна быть судьба инженера какого-нибудь; если это история какой-то школы, то это должны были быть судьбы учителей или учеников. Всегда первичен человек, его жизнь и судьба.
Конечно, в рамках этого, этой общей темы, мы написали несколько подтем: «История семьи», «[История] малой родины», «Человек и власть», «Цена победы» (о войне).
Еще раз: исследование было важно, потому что этот образ человека в ХХ веке, его жизни и судьбы, должен был быть рассказан с помощью источников. Они могли быть очень разные: устный источник, письменные источники, личного происхождения, письма, дневники и так далее. Это могли быть документы, полученные из государственных архивов. Потому что мы же все-таки не литературный конкурс объявляли, а исторический. А с чем историк работает? Он работает с источниками.
Я считала, что будет хорошо, если мы работ двести получим. И когда вдруг посыпались работы... и тогда же очень немногие были напечатаны на компьютере, в основном очень много было на пишущей машинке еще, от руки, все это было в бумажной форме. И мы с почты забирали просто огромные пакеты и получили, по-моему, 1600 работ.
Мы абсолютно были к этому не готовы. Начался аврал. Мы сидели тогда на Малом Каретном переулке, друг у друга в буквальном смысле на голове, и вот посыпались эти тысячи работ. В каком углу там я где-то сидела — это вообще ни в сказке сказать, ни пером описать, погребенная под этими школьными работами.

Но, конечно, это было очень интересно. Мы увидели сразу несколько вещей, неожиданных для нас.
Во-первых, я думала, что, к сожалению, наверняка будут большие города: Москва, Питер, — а это, в общем, не так все-таки мне интересно. Оказалось, что это совершенно не так. Больше трети работ пришли из деревень и поселков из таких углов! Нельзя было даже себе вообразить, что до них какая-то информация про этот школьный конкурс дойдет.
Поэтому было ясно, что потребность есть. В том числе у учителей есть потребность какого-то осмысления, какой-то вот такой работы.
На самом деле, это ведь отчасти была сельская интеллигенция и городская, из маленьких таких городов. В общем, оказалось, что это провинциальная, я люблю это слово («регионы» ненавижу), это такая вот провинциальная Россия.
И что было в головах у этих школьников спустя 10 лет — это, конечно, тоже отдельная песня.
Были смешные вещи. Одно из первых писем было: «Простите, что мы задержим работу, мы думаем, на несколько дней. Потому что у нас пишущая машинка есть только в соседней школе, был такой снегопад, что туда не добраться, там все снегом замело. Как немножко оттает, мы туда доберемся напечатать и вам пришлем». И действительно, прислали.

И раз контингент был такой, то совершенно ясно было, что выйдет на передний план, ну, постепенно стало ясно, какая главная тема, — это раскулачивание.
Я абсолютно не представляла себе, что это станет фактически главной темой этого конкурса.
На самом деле две вещи: раскулачивание и война.
И было несколько мифов, которые воспроизводились, и мы могли их проследить.
Во-первых, миф о прекрасной России до 1917 года. Потом началась Первая мировая. Она отчасти немножко проглатывалась и превращалась в Гражданскую. Очень сильный след все-таки оставила революция и Гражданская война. Один мальчик написал или девочка: «И тогда Россия потеряла все свое величие, весь свой шарм». А «шарм» — это было очень важное слово этой эпохи, второй половины 1990-х.
По форме, действительно, на чем угодно было это написано и напечатано. Иногда на бересте, потому что были какие-то красочные обложки сделаны, разукрашенные. Немножко все это напоминало школьные музеи, так сказать, советские.
Дальше, после Гражданской войны, начинается некоторое ощущение такого благополучного века, вот до 1927 года: вот купили корову, вот построил мельницу...
И дальше опять наступает вот эта, так сказать, страшная сила — раскулачивание, которая, действительно, абсолютно сломает хребет деревне.
Интересно, что террор 1937 года, который так ударил по городу... Не только по городу — по деревне тоже, потому что весь актив только что вернувшихся из ссылки — такие случаи были, — их снова арестовывали. Первая операция Большого террора — она же была заявлена как «кулацкая». В общем, тема террора в сильной степени сглатывалась этой страшной трагедией раскулачивания.
И потом, понятно, начинается война, которая абсолютно тотальная, потому что она затрагивает всех.
И голод, который сопровождает почти всю эту историю первой половины ХХ века. Одна из главных тем, которая так или иначе везде присутствует, — это голод.
Что мы еще увидели — это огромный плавильный котел такой вот мобилизационной, страшной мобилизационной экономики. Когда власть тасует людей в самые разные места. Образ эшелона — это один из ключевых образов этих рассказов. Они создавали такие точки важные. С одной стороны, это вырванные люди, люди с вырванными корнями. И это очень важно в биографиях советских людей — вот эта вот оторванность и вырванность.
А с другой стороны, сохранение в памяти — о чем я вам говорила — вот этого утраченного рая. Что был такой дом, был такой скот...
Конечно, очень интересно, как работала региональная память. Потому что понятно, что если это работа из Петербурга, то все-таки память о блокаде заглушает очень многое, да?
Важно, наверное, сказать о том, пока я говорю про темы, что они меняются и меняются участники. Все-таки через нас прошло два поколения, и это очень интересно.
Вот первое, до 2005-го, до 2007-го, ну, грубо говоря, до 2010 года еще — это довольно свободный подход к истории. Это снятый страх: пойти куда-нибудь в военкомат, попросить: «Дайте адреса тех, кто воевал в Чечне». — «Ничего мы тебе не дадим». — «Тогда пойду в местное ФСБ, дайте адреса, я хочу поговорить с ветеранами, их записать». В этом ФСБ посылают, потом какие-то знакомые находятся. Вот нет страха. Ушел страх. Может, от них ничего не добьешься, но потрясти, походить, все равно спросить, написать, еще раз написать куда-нибудь — это можно, ничего за это не будет и так далее.
Вот такое отношение... Во-первых, мне казалось, что они более взрослые, чем те, которые придут за ними, вот эти дети, росшие в 90-е годы. Повторяю: задать вопрос абсолютно прямой, написать о чем-то — даже о своем пьющем отце, о матери, которая с ним познакомилась в Афганистане.
О бабушке... Там, правда, есть какие-то истории смешные, которые они не знают как трактовать. Например, рассказывают романтическую историю своей бабушки. У нее был жених, она поехала куда-то на практику, на Дальний Восток. И она должна была после этой практики вернуться, села в поезд, а к ней пришел местный энкавэдэшник, который ее арестовал и с поезда этого снял. Оказалось, что он в нее влюбился и это такая была его форма, так сказать, ухаживания. В результате она никуда не уехала, возникла счастливая советская семья. Это было описано с некоторым удивлением как о таком способе ухаживания.
Вот из этого проявлялась фактура жизни, и этого было довольно много.

Была работа, которую вообще непонятно было как оценить. Про калмыка дядю Петю. Это была башкирская школа в небольшом каком-то поселке. И там у них был при школе то ли дворник, то ли мастер на все руки, все чинил. Очень хорошо относился к детям, уже совсем немолодой человек. Прямо скажем, запивавший время от времени очень сильно. И все знали, что он калмык. Было ясно, что он из каких-то попавших туда после депортации калмыков.
Учительница решила, что она попробует все-таки узнать, нет ли у него родственников. Это долгая история, она в газету написала, «Советская Калмыкия». В общем, короче, она нашла его родственников. И нашла старшую сестру.
Они собрали деньги для него, это тоже можно себе представить — 1998 или 1999 год, собрали деньги, чтобы его туда отправить. Вручили ему эти деньги, он их пропил, у него началась белая горячка. И школьники дежурили в медпункте, чтобы он оттуда опять не удрал, пока его не привели в чувство и так далее. В результате его вытащили из этой белой горячки. Они опять собрали деньги. Учительница уже сама с ним поехала. И это действительно оказалась его семья, и он там остался. И если это не настоящий хеппи-энд, то все-таки это был в каком-то смысле хеппи-энд.
Была работа такой девчонки, ее звали Аксинья Козалупенко. У нее дед собирал частушки. Работа называлась «Жизнь и смерть совхоза „Свободный“ в частушках его обитателей». И это было начиная с 1917 года, с частушек про Троцкого, вплоть до сегодняшнего дня почти.
И среди них были ужасно страшные. Достаточно одной такой частушки, чтобы послевоенную деревню себе представить. Я даже помню:
Здравствуй, милка моя,
Здравствуйте, родители!
Пришли втроем на двух ногах
Фашистов победители.
Это, кстати, реальные люди, потому что, как всегда в частушках, это имеет прямое отношение к деревенской реальности.
И я могла бы еще вам приводить огромное количество таких примеров.
По темам еще важно вот что. Для этих школьников очень важно в тот момент было понять, а что такое было это советское? Что такое была эта жизнь?
Была, например, прекрасная работа, девочка искала-искала, хоть что-нибудь найти такое в семье — вроде ничего такого интересного нет, обычная семья. И она находит переписку своего деда с газетой «Известия» начала 1970-х годов. Он пишет письмо в газету и возмущается, что он ветеран войны, а не может себе носков купить, дефицит, безобразие и так далее. Письмо из «Известий» поступает в министерство. Министерство отвечает, что носочно-чулочная промышленность, на самом деле, производит такое-то количество носков на душу населения и что, в общем, полторы пары в год ему полагается. И девочка с ужасом — это совершенный Кафка, — она с ужасом на все это смотрит. Это ведь уже 2007 год, когда вопрос о носках все-таки совершенно не стоит. Такая абсурдизация...
Но главный, конечно, абсурд — это террор. Потому что, когда речь идет... прадеда арестовывают, деда вместе с ним, всех арестовывают. Девочка получает дело, смотрит и не верит своим глазам, потому что это абсолютная совершенно фальшивка. Она говорит: «Ну вот как это может быть такое дело? Почему расстрелян на следующий день? А обжалование приговора...»
Это очень такая, мне кажется, важная была вещь, которая ничем не оправдывалась и не объяснялась, кроме как абсолютным страшным абсурдом вот этой системы.
Если говорить о какой-то параллельной истории первой половины XX века, во всяком случае начиная с Гражданской войны и, в общем, фактически до конца 40-х, — это история голода.
Все, что связано с голодом, в отличие от истории сопротивления, — это очень тяжелая и страшная вещь. Потому что она не дает оптимистического выхода.
Потому что в голоде нет никакой героизации. Это очень хорошо Лидия Гинзбург в своих дневниках описывает, в «Блокадном дневнике», что он, так сказать, ужасно физиологичен и подняться над этим очень-очень трудно.
Очень часто школьники писали: «Я не ожидала, я сижу и плачу». Это тоже, конечно, было, потому что мы просили включать свою собственную рефлексию, как можно больше. Потому что в семье это скрывалось, никто ничего не говорил. «А я не знала, почему прабабушка никогда ничего не говорила. А почему фамилия такая?» Когда они узнают, что национальность не та — вернемся к советским документам, — национальность не та, фамилия не та, год рождения не тот, значит, все абсолютно не так. Осознать это школьникам, вообще подросткам, конечно, очень трудно. Это и взрослым людям очень трудно.
После 2010 года векторы начинают меняться. Даже еще немножко раньше. Мы видим, как государство вторгается в школы, по разным линиям. С одной стороны, идеологически. Опять во главу угла ставится государство, определенным образом война, она становится ключевой, потому что их все время заставляют писать что-то про эту войну. Начинаются снова страхи. И у учителей — не сразу, не быстро, но начинается путаница в голове. Потому что вместе с этой путинской новой доктриной истории возникает новый образ сильного государства, победы в войне и Сталина.
И даже наши, хорошие... все-таки в конкурсе участвовали и немножко карьерные, и заинтересованные, и шустрые — это все-таки такая энергичная часть школьников. И тут начинается шатание. У нас дискуссия. Мы когда их приглашали в Москву и устраивали церемонию награждения, о которой еще пару слов скажу, то мы потом устраивали всякие с ними разговоры. И девочка, которая очень хорошую работу написала, у которой была бабушка, по-моему, из Западной Украины, а дед — это, по-моему, Литва, и сама она откуда-то из Сибири, конечно, при этом. И я чувствую, что она так как-то мнется в ответах на вопросы. Я говорю: «Ну а ты к Сталину как относишься сама?» Она молчит и потом говорит: «Я думаю, что он был эффективный менеджер». И все, и вот она сформулировала, сама даже не знает, что она целое направление придумала.
И вот это соединение такой вот государственной эффективности и такой отстраненности... Я говорю: «Ну да, в отношении твоей семьи, по-видимому, он действительно был — я так довольно зло сказала, — довольно эффективным, потому что вряд ли твоя бабушка с дедушкой при других условиях познакомились и поженились бы и ты, такая прекрасная, на свет бы не появилась». Но я помню, что это тогда на всех произвело очень сильное впечатление. И это пошло.
И что мы наблюдали дальше: власть все больше давила и вмешивалась. После того как «Мемориал» был объявлен «иностранным агентом», стало уже почти подвигом с нами сотрудничать. Хотя работы по-прежнему приходили. Может быть, это не было 3000 в год, как раньше, потому что мы стали самым большим европейским историческим конкурсом в Европе, страна огромная, но, во всяком случае, 1500 работ в год было до самого конца.
Но работы стали очень разниться, потому что школа и окружающая обстановка диктовали, конечно, уже другой взгляд на историю.
И именно поэтому все-таки наш школьный конкурс, и многие школьники, и учителя так или иначе, даже не артикулируя все это для себя, этому сопротивлялись. Вот это вызывало очень большое раздражение. И я думаю, что именно поэтому школьный конкурс стал одной из главных мишеней. Просто на суде по ликвидации «Мемориала» прямо об этом говорилось.
Что грустно было для нас — это вопрос с учителями. Учителей мне было очень жалко. Школьников, конечно, тоже. Но все-таки, во-первых, они были молодые, во-вторых, так или иначе жизнь впереди. А вот с учителями — на моих глазах развивалась эта история. Я имею в виду тех, которые хотели действительно как-то и учить истории, и учить правде. Мы же застали такие еще осколки шестидесятников, часто женщин, иногда мужчин, в разных небольших городах. Для нескольких таких людей, которых я знала, этот школьный конкурс был очень важной вещью.
И были трагические судьбы. Например, в небольшой деревне Старый Курлак, Воронежская область. Почему там вдруг возникает такой мощный, такой замечательный учитель? Фантастическая краеведческая работа, когда они описали чуть ли не каждый дом в деревне, подняли столько архивов, такие источники, так умно написано, так глубоко. И это вот такая малая родина, мы даже сборник специально издали про этот Курлак, «Мы с одной деревни». Потому что учитель, Николай Макаров, был совершенной белой вороной, как часто с учителями, вообще-то, бывает.
Очень талантливый краевед, создал вокруг себя кружок. И они получали все время призы. Они очень много там действительно нарыли. Это замечательная история этой всей деревни и очень сложная. Очень сложная, потому что не делятся так просто на виновников и жертв и на доносчиков, и такой компот сложных отношений, невероятных переплетений там вскрылся у них.

Но потом школу в одной деревне, в которой Макаров работал, закрыли. Потому что это тоже ведь началось — закрывать эти школы маленькие. Во-вторых, у него начались неприятности из-за сотрудничества с нами и вообще из-за того, чему он учил школьников.
Во всяком случае, ответ русского человека всегда понятно какой — это алкоголь. И это просто как будто читаешь книжку... Потому что становилось все хуже и хуже, он был человек одинокий, он там жил, по-моему, только с матерью. И конкурс — это было главное содержание его жизни. И вот в результате сгорел дом каким-то образом, там непонятно, и, в общем, он погиб. А это был, вообще-то, лучший учитель нашего конкурса.
Но я повторяю, что были учителя, которые оставались с нами почти до самого конца. И даже когда «Мемориал» ликвидировали, еще пришло сто работ вдогонку. Поэтому это очень схематическая картина, которую я вам нарисовала, но на этом школьном конкурсе она проявлялась довольно очевидно. Потому что когда ты имеешь дело с подростками, то все становится очень выпукло.
Теперь надо несколько слов сказать про наших победителей. Мы очень быстро увидели, что большие призы мы дарить не можем, и самый главный приз — это был приезд в Москву.
Для них было важно — и дальше становилось это не менее, а может, даже более важным — увидеть единомышленников. Мы хотели, чтобы они друг с другом разговаривали, чтобы они что-то вместе придумывали, во что-то вместе играли.
И мы в этом участвовали, пришло целое молодое поколение наших сотрудников, которые с удовольствием с ними работы обсуждали и время проводили, считали это важным.
Ведь что самое важное вообще? Это то, что к тебе относятся с уважением. Это школьники, подростки всегда чувствуют. И это главное. Это дает возможность хоть для какого-то диалога, который чрезвычайно труден. Я это по своим детям и внукам знаю, каким трудным бывает, на самом деле, этот диалог.
Поэтому вот этот приезд в Москву, то, что мы называли школой-академией торжественно, эти шесть дней друг с другом — они становились очень важными. И приезжали помогать те, кто были до этого победителями.
Но это становилось все труднее, мы были вынуждены все больше обороняться и защищаться и все время ожидали каких-то нападений, там, в самой разной форме. Атмосфера становилась все более напряженной.
И если вспомнить, как мы начинали, при всем том, что к «Мемориалу» было отношение с самого начала непростое, но все-таки представить себе, что, по-моему, 2002 год, Элла Панфилова выходит на сцену и говорит: «Дорогие школьники, дорогие мемориальцы, какие же вы все молодцы. У меня тоже вся семья репрессирована, и бабушка, и дедушка»... Вот это невозможно себе представить.
Что касается того, что потом с ними стало, с этими всеми 50 тысячами, кто принимал участие. Есть у нас, это просто такая уже выставочная история, есть одна из лучших мемориальских адвокатов, победительница нашего второго, по-моему, конкурса. Есть Маргарита Завадская, очень известный социолог, — это, по-моему, второй наш конкурс.
Но есть и другие истории, и даже они подтверждают, что у нас были очень способные победители, что мы не ошибались, но только они как-то свои способности теперь употребили на совсем, совсем другую сторону.
Последнее, что я хочу сказать: мы очень старались с международными связями. И сейчас тоже это трудно себе представить, что у нас была школа в Москве, и приехали польские школьники и наши, и они вместе ездили в Медное. Это ближе, чем Катынь, это тоже место, где убили польских офицеров. И они об этом говорили, сравнивали биографии, говорили о том, значит, что советская власть принесла в Польшу, и абсолютно находили общий язык. Представить это себе сейчас, конечно, на нашей родине невозможно.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Как пресса оказалась самым открытым и правдивым источником по истории советских карательных органов.

Архив в моей деятельности, конечно, занимает центральное место именно потому, что я изучаю историю советского периода ХХ века. И здесь очень многое действительно скрыто именно в архиве.
Но если мы вспомним, как мы изучали историю до 1991 года, когда архивы были от широкой публики закрыты... В архивах работали люди, в архивах были, безусловно, исследователи, но это были какие надо исследователи, которые работали над какими надо темами.
Например, если человек занимался официально советской историей, будучи студентом-историком, а потом, соответственно, работником какого-нибудь исторического института, он не мог взять для себя тему, условно говоря, «Идейное наследие Троцкого» или он не мог взять для себя тему, связанную с массовыми репрессиями 1937–1938 годов. Это просто было бы запрещено, ему просто бы никто не дал этим заниматься.
И, естественно, они должны были быть историками по профессии, по образованию. Никакой публики с улицы прийти в архив не могло. И естественно, что архивная работа для меня, например, когда я начинал заниматься историей, она была чем-то недостижимым.
Это было в очень давние годы, это был 1975 год, даже и до того, когда я просто коллекционировал газеты.
Я учился в Московском химико-технологическом институте имени Дмитрия Ивановича Менделеева, и моя специальность была физическая химия, технологии редких и рассеянных элементов: уран, плутоний и все, что связано непосредственно с атомной промышленностью.
А история была предметом, которым я просто увлекался. И вот это увлечение со временем стало моей специальностью, моей профессией. Некоторые говорят: «Он сам себя объявил историком». На самом деле, конечно же, историками становятся те, кто хочет быть историками.
Мое изучение истории началось с чтения советских газет за старые годы, и это было то, что для меня открывало мир. Ведь советская история была насквозь фальсифицированной и она была полна зон умолчания. Но именно пафос изучения истории в советское время как раз и заключался в том, что ты открываешь неизведанное, ты занимаешься тем, что от тебя скрыли.
Поэтому, конечно, когда я тогда начинал заниматься всем этим, я не мог и мечтать о том, что я приду в партийный архив, что называется, открою дверь ногой и скажу: «Ну, где тут у вас протоколы Политбюро, дайте-ка мне это посмотреть».
Тем не менее я не хочу сказать, что мои занятия не были успешны, потому что советские газеты дают богатейший материал для фиксации событий текущего дня. Он тоже, конечно, идеологически подан в газетах, но, по крайней мере, пока какие-то политические деятели, какие-то политические фигуры не названы врагами народа и входят в ЦК, в Политбюро, они в газетах присутствуют и в виде портретов, и в виде их речей, и в виде описания событий, в которых они участвуют. А потом, когда они уже были репрессированы в 1937–1938 годах, их имена напрочь вычеркивались из истории. И это тоже одна из моих претензий к советским учебникам: они не были населены людьми.
В отличие от фантазии Оруэлла в книге «1984», советская власть старые газеты не переписывала: она как их положила в газетный зал Ленинской библиотеки, так они и лежали. И мы с моим приятелем Сергеем Филипповым, когда первый раз переступили порог газетного зала в Химках, были удивлены: нам дали газеты, в которых были фотографии, где присутствовал Ягода, где был отчет о процессе троцкистско-зиновьевского блока августа 1936 года. Мы тогда осознали, что это действительно то, что нам нужно читать и перечитывать, и мы будем получать действительно исторические знания.
Советская власть придавала печати первостепенное значение, об этом еще Ленин говорил яркими лозунгами, о том, что «печать — это не только коллективный агитатор, но это коллективный организатор». И советская власть добилась того, что в каждом районе издавалась районная газета.

А если говорить о том периоде, на котором я концентрировал свое внимание — я сразу как-то взялся изучать именно историю советских органов госбезопасности, — то и районные, и городские, и областные, и республиканские газеты давали богатейший материал, потому что везде были фамилии этих людей. Их либо награждали, либо поощряли, либо они стояли на трибуне. Одним словом, я составлял большие реестры с фамилиями этих людей и я понимал, что открываю то, что, в общем-то, никто до сих пор не коллекционировал. Вот этот пафос открытия, пафос погружения меня очень увлекал, и я был тогда просто счастлив.
Почему я стал заниматься именно этими людьми? Меня, конечно же, совершенно не удовлетворяли советские учебники, меня не удовлетворяли книжки советские по истории, которые мне ничего не объясняли про Лаврентия Берию, а о нем все время говорили, это имя было как будто бы на слуху. Даже Высоцкий пел, что «у нас соседа забирают, потому что он на Берию похож». Он был хрестоматийным, он был таким героем, злодеем, «назначенным» советской властью для того, чтобы списывать на него все те безобразия, которые шли, безусловно, от Сталина.
Это была очень важная тема, которая, с одной стороны, скрыта, с другой стороны, в ней есть люди. А с третьей стороны, мне очень хотелось знать, что такое Берия. А потом, когда пишут в газетах «Берия и его банда», я нашел в газете 1953 года. У нас они дома были, у меня отец собирал газеты и всегда мне говорил, что сегодня читать сегодняшние газеты неинтересно, зато лет 20 пройдет, и тогда эти газеты становятся интересными. И это действительно было так. Потому что сегодняшние газеты — ну что, то же самое говорят по радио, по телевизору. А проходит лет 20, и вдруг выясняется, что те, кого восхваляли 20 лет назад, они, оказывается, негодяи. Те, кого ругали и пинали 20 лет назад, оказывается, не такие уж и плохие люди.
Все меняется, за 20 лет вдруг происходит то, что называется сменой парадигмы. И эта смена очень четко наблюдается, когда ты читаешь газеты 20-летней давности. Может быть, советская власть считала, что у советского человека не должно быть долгой памяти. Но на самом деле у советского человека была долгая память, потому что и Берию помнили долго, и тех, кого советская власть гнобила, и тех, кого советская власть расстреляла.
Так вот, здесь сочетание рассказов, устной истории и газетного материала — они давали мне богатейшую пищу. Но меня заинтересовало дело Берии. Кто еще-то с ним? И вот именно поиск тех лиц, фамилии которых, в принципе, широкому кругу людей в советское время даже ничего не говорили... Некто Меркулов, Деканозов, Кобулов, Гоглидзе, Мешик. Что это за фамилии? В газете 1953 года были приведены их должности. Например, было написано, что Мешик — начальник одного из управлений НКВД, по-моему, так было сказано. Ну если я просмотрю все областные газеты, я, наверное, его найду, подумал я.
И так начался мой огромный проект, когда я стал смотреть все областные газеты, все составы областных советов, состав бюро обкомов и искал. Мешика я там не находил. Но зато там была масса других фамилий начальников, которые потом стали генералами. Огромные наградные списки: звание, фамилия, имя, отчество, чем награжден и ведомственная принадлежность.
Если я встречал, что кто-то пишет в своих мемуарах, например какой-нибудь Подоличев описывает свое пребывание на посту первого секретаря Ярославского обкома и пишет: вот члены бюро, называет какие-то фамилии... Ведь не было проблем пойти и посмотреть ярославскую газету «Северный рабочий» и найти там материалы областной партконференции. А там состав обкома печатался, там можно было уточнить инициалы. А если вас интересовало нечто большее — например, ну да, я знаю фамилию, имя, отчество, но мне интересна его биография, — и этот механизм тоже легко нащупывался. Чего же было проще? Надо было взять именно тот период, когда избирался областной совет, и, как правило, партийные начальники входили в состав областного совета. В областном совете были уже года рождения этих людей. И дальше, собственно говоря, нужно было посмотреть, по какому округу он избирался. Если в области где-то, в каком-то сельском районе, то это вообще было золотое дно. Можно было взять районную газету, и там была его биография с фотографией.
Я уж не говорю о том, что все областные газеты, да и районные, давали некрологи, если человек умирал. А если человек исчезал и не было некролога, это уже для вас тоже интересный момент. Что с ним случилось? Конечно, в 1937–1938 годах областная печать была очень откровенна. Она просто называла тех, кто арестован из состава членов бюро, врагами народа. То есть она клеймила, и это клеймение в те годы — это тоже очень интересно, потому что у вас уже, я бы сказал, складывался такой коллективный портрет областного руководства.
Ну и про всесоюзный уровень — здесь проще, потому что члены Политбюро — они вообще на виду. И все, конечно же, всегда обращали внимание, почему не вывесили, например, в каком-нибудь 1982 году накануне Октябрьской годовщины портреты Кириленко, все говорят: «А все, сняли, значит». И действительно, через несколько недель — пленум, и Кириленко выводится из состава Политбюро.
У меня было порядка 500 биографий руководящих чекистов на момент моего прихода в «Мемориал» в 1988 году. У меня были многие тысячи, более 3 тысяч имен, записанные в тетрадке, с указанием ведомственной принадлежности. Какие-то краткие биографии были еще на какую-то публику, которая не входила в те 500. То есть я в «Мемориал» пришел уже не с пустыми руками. И мы познакомились с Арсением Борисовичем Рогинским, и он был впечатлен моей работой. Он сказал: «Да, безусловно, нам в „Мемориале“ эта работа нужна, и хватит сидеть в подполье. Что ты там сидишь — тайно там что-то делаешь?»
За этим занятием меня, собственно, и застал 1991 год, когда случилась архивная революция и открылись архивы.
Меня удивило то, сколько бумажек о преступных акциях советская власть сохраняла в архивах. Потому что, что касается кадрового состава органов советской госбезопасности, ну, здесь основной костяк, собственно, мной был собран, и я только получал дополнительные данные в архивах. А вот содержательно: история репрессивных кампаний, история конкретных преступлений, тайные убийства каких-то людей — вот это, конечно, в архивном материале меня поразило именно своей скрупулезностью. То есть как советская власть все это собирала. Многие потом спорили со мной и говорили: «Ну а как, почему они это не уничтожили?» Я отвечал уже ленинскими словами: «Социализм — это учет». А как иначе потом проконтролировать, кто чего, за что отвечает, кого надо награждать и кого надо наказывать? Для этого должны быть бумаги. И эти бумаги сохранялись.
Вот это был, конечно, переломный момент, который позволил наполнить ту мою работу серьезным, уже действительно историческим знанием.
Ну, конечно, август 1991 года привел действительно весь этот архивный мир в движение. Стала работать комиссия по приему-передаче архивов КПСС, КГБ на государственное хранение, которую возглавил Волкогонов. Я входил как эксперт в состав этой комиссии.
Тогда, я помню, мы говорили с Буковским, и он предложил создать международную комиссию по архивам, которая взяла бы под контроль все эти советские архивы, ранее закрытые, недоступные, и публиковала, изучала и в конце концов находила бы какие-то преступления и кого надо наказывала. Но когда этот проект был отпечатан на машинке — это было при мне, а рукописный вариант даже я писал, вместе обсуждая с Буковским, — одним словом, когда Буковский пошел по кремлевским кабинетам с этим предложением, оно было отвергнуто. Везде ему сказали: «Ну это же унизительно, мы что же, сами не можем разобраться со своей историей? Зачем нам все эти кембриджи, оксфорды, стэнфорды, колумбийские университеты?» Он говорил: «Но ведь эти люди уже имеют опыт, они же много изучали, и здесь, в стране, тоже есть люди, которые этим будут заниматься, тот же „Мемориал“». Но ему, естественно, в этом отказали.
А дальше, собственно говоря, легко понять. Кто пришел к власти в 1991 году? В принципе, все тот же самый аппарат, только низовое и среднее звено КПСС. И получалось так, что они не способны были перепрыгнуть этот рубеж и сказать: вот новая демократическая Россия, которая должна была бы, конечно, объявить люстрацию и расстаться с прошлым. Она стала использовать элементы этого прошлого, и уже где-то к середине 1990-х годов советский традиционализм, в принципе, победил. Весь пар перестройки и постперестроечного времени демократической России — он весь ушел в свисток.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Как архивные документы не позволили бывшим чекистам выставить себя жертвами.

Знаете, никогда нельзя проникнуть в чужое сознание и точно убедиться, есть ли у данного человека рефлексия, насколько он переживает совершенное им.
Те же самые чекисты, с которыми я беседовал в начале 1990-х годов или в самом конце 1980-х годов, они были для меня интересны именно тем, а что скажет, как отнесется?
Конечно, они, удивительно, многие говорили, что «мы вот этого не знаем, это не помним, здесь мы только бумажки перекладывали». На самом деле потом, когда я попал в архивы, когда я изучал их судьбы и их истории уже по архивным материалам, я понял, что в разговоре со мной врали все абсолютно. Ну, только в той или иной степени, кто больше, кто меньше.

Леонид Федорович Райхман, отставной и пострадавший генерал-лейтенант МГБ, когда я ему звонил, он говорил: «А, это вы тот химик, который нами интересуется?» Я его спрашивал о каких-то его сослуживцах, и он, конечно, приходил в некоторое недоумение, потому что он не понимал, откуда я знаю эти фамилии, как будто бы я работал вместе с ними. И ему вдруг самому стало интересно. Ему интересно было не только что-то скрыть от меня или дать мне какую-то иную интерпретацию событий. Ему уже интересно было узнать: а сколько я знаю про них? То есть он уже начинал играть в свою профессиональную чекистскую игру.
Конечно, у них, руководящих чекистов, был такой, я бы сказал, уже вновь появившийся комплекс жертвы. «Мы честно, верой и правдой служили советской власти. Советская власть нам давала приказы. Плохие, безусловно. Но с нами тоже поступили несправедливо». И так далее и так далее.
То есть вот того полного деятельного раскаяния, о котором мы можем говорить как о нравственном очищении, его не происходило.
А были такие люди, как, например, Павел Судоплатов, которые упорствовали и защищали все то безобразие, которое они делали. Они считали: «Я нежелательный свидетель, мне власть поручала убивать людей, а потом меня же за это наказала. Это несправедливо».
Я занимался Судоплатовым. Я его историю действительно очень хорошо изучил и видел много таких документов, о которых Судоплатов думал, что их уже, может быть, даже и в природе нет. И первые мои публикации — в газете «Московские новости», вместе с Наталией Геворкян, где мы описывали как раз судоплатовские подвиги. Это вызвало у Судоплатова — он тогда еще был жив — несколько нервную реакцию.
В чем была проблема Судоплатова? Он долго добивался своей реабилитации. Он долго готовил к этому почву. Он оказывал всевозможные услуги Волкогонову, который писал книгу про Троцкого. Но при всем при том он прекрасно понимал, что за ним есть те эпизоды, которые не дают возможность его реабилитации в общественном сознании.
И поэтому он сделал ставку на то, что одной, я бы сказал, рукой он продолжал писать заявления в ЦК, в прокуратуру, влиятельным людям, добиваясь своей реабилитации. А другой рукой он стал серьезно работать над мемуарами, понимая, что именно реабилитация в общественном сознании поможет ему добиться и той искомой реабилитации, юридической.
Юридическая произошла в самом начале 1992 года, когда приняли новый закон о реабилитации. Но, безусловно, вопреки этому закону. В законе ведь запрещено реабилитировать тех, кто совершил преступление против правосудия. У Судоплатова в деле масса этих материалов. Но в 1992 году решение о реабилитации Судоплатова подписал прокурор не из Управления по реабилитации Главной военной прокуратуры, а из Управления по надзору за органами госбезопасности, то есть социально близкий. Это было вопреки всем правилам.
Я потом беседовал с работниками Управления по реабилитации Главной военной прокуратуры, и начальник этого Управления, Купец, мне тогда сказал, что это помимо нас сделано, мы это пытаемся опротестовать. Но, конечно же, у них ничего не получилось.
А Судоплатов написал своего рода самооправдание. И это самооправдание включает в себя, кстати говоря, и трактовку истории. Он о многом в книге умалчивает, многие события он перевирает, это абсолютный факт. Но главное, что он всему придает значение государственного служения. Он очень точно уловил новый пафос, что вот партия — это партия, а вообще я всегда служил родине, государству. И поэтому его мемуары — это на самом деле мемуары нераскаявшегося преступника, если о них говорить серьезно.
Его сын Анатолий — он, к сожалению, рано умер, — он судился со всеми, кто называл его отца, Павла Судоплатова, убийцей. Он не судился только со мной. Он прекрасно понимал, что под моими утверждениями, собственно, есть бумаги, которые называются «фонд, опись, дело, лист». И вот этот «фонд, опись, дело, лист» и понимание шаткости той реабилитации, которая состоялась, как раз диктовали ему, что не стоит лишний раз педалировать эту тему.
Его архивно-следственное дело, которое хранится в прокуратуре, содержит по крайней мере четыре эпизода убийства людей в обход суда и советской законности в 1946 и 1947 годах.
В одном из случаев Судоплатов отдавал команду сделать смертельный укол, находясь тут же, рядом с жертвой. В другой раз он появился в вагоне поезда, когда убили Шумского в 1946 году. Я не буду подробно об этом говорить. Есть все эти описания в том числе и в моих статьях.
Дело в том, что еще в 1941 году Сталин придумал создать специальную группу в НКВД, которая занималась бы людьми, «которых мы не можем арестовать», как говорил Сталин, «но которые нам вредят. И поэтому этих людей нужно похищать, избивать и бросать». Это я цитирую буквально слова Сталина. Но, по сути, конечно же, под этим понимали, что кого-то можно и убить. Судоплатов, собственно говоря, возглавил эту особую группу в 1941 году. После войны никто не забыл этой темы — расправиться с кем-то внутри страны, если нет никакой необходимости или неудобно его арестовать. И вот такие четыре жертвы — по крайней мере, Судоплатов о них пишет... Но он пишет весьма интересно в своей книге: «Мне известно о четырех случаях». Итак, в 1946 году был убит польский инженер Самет, который собирался уехать в Польшу, но его не собирались отпускать, он был связан с какими-то оборонными работами. По крайней мере, говорят, что он что-то делал для подводного флота. И его просто ликвидировали — по плану, который Судоплатов разработал. И план этот был утвержден министром Абакумовым и, соответственно, получил санкцию от Сталина и его ближайшего окружения.
Второй случай: в том же 1946 году был убит украинец Шумский, который был когда-то в украинских эсерах, потом входил в правительство Украины в 1920–30-е годы, потом за свои националистические, как считалось, взгляды был отовсюду отставлен и в конце концов находился длительное время в ссылке, а оттуда, из ссылки, писал Сталину письма. И привлек тем самым вновь внимание Сталина, который просто распорядился его убить. Шумский был убит в поезде. Инженер Самет был смертельно уколот Майрановским в машине, когда его тайно, негласно задержали на улице, а потом брошен на окраине Ульяновска и переехан машиной. Вся идеология Судоплатова, она же шла от Сталина: чтобы это выглядело как будто это либо несчастный случай, либо естественная смерть.
На следующий год точно так же был убит в тюрьме американский коммунист и агент советских органов госбезопасности, но посаженный в 1939 году на восемь лет, потому что его заподозрили в двурушничестве. Сел в тюрьму и в 1947 году должен был выйти на свободу. И о нем знало американское посольство, с ним уже встречались дипломаты. Но его никак не хотели отпускать за рубеж, потому что он знал о многих тайных акциях. И его просто-напросто убили во внутренней тюрьме с помощью смертельной инъекции. Документов на этот счет, кстати говоря, не так много, но они тоже есть, сохранились.
И осенью того же 1947 года был таким же образом убит, смертельной инъекцией, но сначала на него было совершено нападение, грекокатолический епископ Ромжа, Федор Ромжа. Он в Ужгороде возглавлял грекокатолическую церковь, которая очень мешала, как мы понимаем, той церкви, которая официально продвигалась Кремлем, хотя и не сильно поощрялась. Но, тем не менее, грекокатолики сильно раздражали Кремль и руководство ЦК Компартии Украины. И вот это тоже все было сделано ведомством Судоплатова.
Вот это как называется? Когда человека помимо суда, следствия, ареста просто убивают, потому что так сказало высшее политическое руководство. Для Судоплатова это самые неприятные моменты. В его архивно-следственном деле все это есть. Каким образом убийцу могли реабилитировать в 92-м году? Мне лично непонятно.
Я, кстати, пытался в судебном порядке оспорить реабилитацию Судоплатова, но мне было отказано. Мне сказали: «А ваши права никак не затронуты здесь. Вы-то тут при чем? Вот если бы жертвы там что-нибудь написали, может быть, тогда мы бы рассматривали. Но вы историки, исследователи, сколько вас тут? И чего-то хотите. Загружаете только нашу судебную систему совершенно не свойственным ей делом». И поэтому Судоплатов до сих пор числится реабилитированным.
Понимаете, он, в принципе, отсидев 15 лет, ведь его при Хрущеве посадили... Но он был обвинен, как у нас всегда бывает, еще и в том, что можно было бы даже и не упоминать — как член «банды Берии», который осуществлял расправу с честными людьми в угоду бериевским каким-то интересам. Сталин как бы выводился за скобки в хрущевское время. Но в данном случае мы же прекрасно понимаем, что «банда Берии» — это некая искусственная конструкция. И Судоплатов за это ухватился. Он говорил: «Я никогда не был близок к Лаврентию Берии, я никогда не выполнял его приказов убить кого-то». И это была правда. Берия действительно не давал ему заданий убивать тех людей, о которых мы только что говорили. Эти задания он получал из Кремля. Но это тоже формальные основания сказать: «Меня неправильно обвинили».
После выхода из тюрьмы он серьезно, конечно, потерял свое здоровье. Он перенес и инфаркты, он, по-моему, ослеп на один глаз. Это действительно не санаторий, 15 лет во Владимирской тюрьме от звонка до звонка. Это большой срок.
До того как он был осужден, он пару лет симулировал сумасшествие, и довольно успешно, пока его не взялись лечить с помощью электрошока. Он тут же выздоровел. Более того, он выздоровел тогда, когда до него дошли вести, что Эйтингон, его заместитель, не расстрелян, а приговорен к 12 годам. Это его приободрило. Он понял, что как бы такой вал прошел. Кого надо — расстреляли, теперь, наверное, можно каким-то образом выкрутиться. Он боролся за жизнь таким образом.
Когда он вышел, он занимался литературной работой. Он не бедствовал, хорошие деньги зарабатывал. Он получал пенсию по старости плюс за литературные труды, которые очень хорошо оплачивались. И, казалось бы, если бы он понимал, что он делал что-то не то в той жизни, до 1953 года, то он, наверное, и не стал бы добиваться реабилитации. Но он считал, что он должен быть реабилитирован и он должен утвердить свою правоту. И вот в этом отношении он и является для меня нераскаявшимся преступником. Потому что, добиваясь своей реабилитации, он думал, что он тем самым перечеркнет свое, что называется, преступное прошлое.
Сколько людей, руководящих работников НКВД, были реабилитированы только потому, что их обвиняли в несуществующих заговорах? Но никто не ставил им в вину репрессии, которые они проводили против людей.
Понимаете, это полная ерунда, когда и чекисты 20–30-х в 50-е, и чекисты 50-х, 60-х, 70-х впоследствии оправдывались и говорили: «Ну, время было такое, законы были такие». Как у Юрия Трифонова в «Доме на набережной»: «Время было такое, вот на время и обижайся, что ты на меня обижаешься? Мы же просто законопослушные люди, мы выполняли эти законы».
Это неправда. По той простой причине, что Конституция была и Конституция запрещала все это делать.
В середине 1930-х годов, когда начался Большой террор, многие тут же попытались соскочить. Не так много их было. Многие, может быть, и хотели бы, но не могли и побоялись. А вот сотрудник секретно-политического отдела, был такой Сидоров, он просто симулировал сумасшествие. Есть объяснительные записки в архивно-следственных делах каких-то сотрудников районного уровня НКВД, которые понимали, во что их втягивают, и они не желали избивать арестованных, например. Один пишет: «Меня за это прозвали „монахом“ среди сотрудников райотдела НКВД». Я сейчас не помню его фамилии, но это довольно интересный документ. Представьте себе, были и такие примеры.
Понимаете, в чем ценность архивно-следственных дел 1930-х годов, той же массовой «кулацкой операции»? Когда наступила эпоха реабилитации при Хрущеве, тогда ведь реабилитация была судебной, в 1950-е годы, и очень многие люди еще были живы из тех, кто в 1930-е вел дела в НКВД. И очень часто их вызывали на допрос. Следователи военной прокуратуры относились к делу, в принципе, серьезно. Они хотели понять: так виноват перед нами человек, который был либо расстрелян, либо отсидел свою десятку в лагерях, или нет? И надо поэтому узнать у следователя, что следователь нам скажет. Ведь у нас в заявлении, например, человек, переживший лагеря и переживший следствие 1937 года, жалуется, что его били. А давай-ка мы у следователя спросим: он же знает, кто его бил, он же пишет, кто его бил. Давайте мы его спросим, вызовем.
И вот здесь как раз и появлялись эти объяснения и эти протоколы допросов бывших следователей. Которые, кстати говоря, дают много материала именно потому, что бывший следователь, будучи вызванным на допрос, пытается переложить вину на каких-то своих других сослуживцев, называет новые фамилии, и затевается новое дело. Там тоже богатейший материал — как, собственно говоря, фабриковались дела.
Более того, там же и материал о том, как приговоренных к расстрелу, когда их направляли уже на расстрел, продолжали избивать. «Всыпь ему напоследок», — кто-то из сотрудников НКВД говорил.
И там многое говорилось из того, что действительно ужасает. Это и пытки, и избиения, даже когда они не имели никакого смысла, когда людей уже направляли на расстрел. Это и фабрикация дел на пустом месте. Такая открывается вселенная сталинского произвола, что, в общем, дальше ехать некуда.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Декларация об объединении украинских художников и писателей 1945 года и ее история.

Фонд Игоря Костецкого. Декларация объединения украинских писателей и художников МУР — «Мистецький украинський рух».
В начале 1930-х в советской Украине жертвами сталинских репрессий оказались почти все представители украинского авангарда: писатели, поэты, режиссеры, ученые. Потом им нашли коллективное определение — «Розстрiляне відродження» («Расстрелянный ренессанс»). То есть одно поколение украинской интеллигенции было уже уничтожено. И после войны все люди, которые подписывали в сентябре 1945 года декларацию МУРа, могли стать следующей культурной волной, восполняющей столь ужасающие потери. Но не судьба...
Немного о фондообразователе Игоре Костецком. Родился в 1913 году в Киеве. Вместе с младшим братом в конце 1920-х — начале 1930-х годов присоединился к группам культурного авангарда. Несмотря на уже начавшиеся сталинские репрессии, молодой Костецкий работал в разных театрах Ленинграда и Москвы, интересовался школой художника Филонова, вместе с братом принимал участие во многих спектаклях.
В Киев Костецкий вернулся к концу 1930-х. С началом Второй мировой войны оказался под нацистской оккупацией и был отправлен на принудительные работы в Германию. По окончании войны был в качестве так называемого DP, displaced person, интернирован в лагерь, где встретился с украинскими соотечественниками.
Архивный документ, который мы сейчас представляем, состоит из двух листов на плохой, почти газетной бумаге, которую удалось достать группе украинских солагерников DP и на которой напечатан — на печатной машинке с украинскими буквами! — текст декларации объединения украинских писателей и художников, именующих себя «Художественное украинское движение», «Мистецький украинський рух», МУР.

Под напечатанным в Нюрнберге и датированным 26 сентября 1945 года текстом — имена шести организаторов декларации (среди них — Костецкий) и 35 подписантов, а также их подлинные подписи, почти всех участников этой встречи.
Признаюсь вам честно: так как я работала с этим документом, уже зная и историю «Расстрелянного ренессанса», и историю украинского правозащитного движения, я понимала, насколько неожиданно в лагере интернированных... они очень тяжело работали, многие из них заболели, не выжили. И вот этот «остаток»: литераторов, музыкантов, художников, скульпторов — я здесь вычитываю, как они сами в это не верили, что они выжили. Вся Германия разбомблена, поделена на четыре сектора, в этом секторе где-то собирают на каких-то полустадионах-полуполях, быстро какие-то бараки строятся... и туда заселяются эти люди. И среди них вот эти друг друга находят и так быстро, на таком подъеме, организовывают такую встречу. Ну вот где они нашли печатную машинку с украинскими литерами?!
И представить себе, как где-то там, на какой-то поляне, они вышли... Еще полгода назад была война, летели бомбы, это не представить. И вот это — да, опять как ренессанс.
Вот по этому документу в фонде Костецкого видно, что, когда еще украинцы были в лагере DP, совершенно не знали, как будет складываться их будущее, они себя чувствовали все одной большой семьей. Им обязательно хотелось объединиться и своей творческой деятельностью и работой обязательно оставить миру что-то, по чему скажут: «Вот это была украинская культура, они тоже представители этой культуры». И несмотря на то, что судьба их и до, и во время, и после войны разбросала, тем не менее они объединились.
Я это восприняла как ренессанс, и, когда я поставила это в контекст, увидела дату и увидела эти подписи от руки, у меня, конечно, задрожали руки. Я долго смотрела на этот документ, и мне так хотелось громко сказать: «Где все эти историки, ученые, которые оценят и поймут, какой это уникальный документ? Я всем хочу его показать, смотрите!»
Как архивист я нашла этот документ, я его обрабатываю, понимаю, какой это уникат. Я его могу описать так, что, скажу образно, о него «спотыкнется» именно тот, кто что-то подобное ищет. При всем том, что я оценила его, у меня нет настоящих знаний исторических или литературоведческих, которые и сам контекст, и даже к каждому имени столько добавят, что я только тогда пойму, какой это уникат в квадрате. Это одна колея.
Теперь реальная колея. К сожалению, мы очень ценный архив, но относительно юный и маленький, наш штат небольшой. И поэтому, несмотря на то что я этот документ нашла и его оценила... Сам фонд Костецкого состоит приблизительно из 70 или 80 коробок. Описать его сейчас у меня нет возможности, на обработку и описание такого фонда нужен минимум год. Поэтому, к сожалению, он не описан, его нет в базе данных. Но любой исследователь, который видит в нашем электронном каталоге, что есть фонд Костецкого и что там присутствуют и корреспонденция с диаспорой, и тамиздат, и публикации, и фотографии, — он может сделать конкретный запрос.
И, конечно же, когда я чувствую, что там знающий человек, я ему тут же, извините за жаргон, подсуну этот уникат, чтобы он его увидел, поработал с ним и что-то об этом опубликовал.
Я в этом вижу задачу архивиста: преподнести или передать в правильные руки нужный документ.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
История переписки между Магаданом и Бременом во времена железного занавеса.

Перед нами немецкая почтовая карточка-уведомление, датированная июлем 1979 года, о доставке письма или посылки в Советский Союз, а именно в Матросово Магаданской области. Туда был сослан украинский поэт Василь Стус.

Стус родился в 1938 в Виннице, но большую часть своей жизни прожил в Донецке. Был аспирантом Киевского института литературы и вошел в историю украинского правозащитного движения в октябре 1965 года, когда в киевском кинотеатре «Украина», где проходила премьера фильма Параджанова «Тени забытых предков», он встал и громко призвал к солидарности с украинскими диссидентами.
В сентябре 1972 года состоялся первый суд над Стусом, закончившийся приговором 5+3, то есть 5 лет лагерей и 3 года ссылки. С 1977 года местом этой ссылки и было Матросово в Магаданской области.
Несколько слов о получателе вышеупомянутой карточки-уведомления Христе Бремер. Женщина с непростой биографией: рожденная в 1929 году в Берлине, она подростком пережила конец Второй мировой войны, разбомбленную и поделенную на политические зоны влияния столицу, из которой она бежала в западную часть Германии. В городе Бремен в начале 1980-х годов она была уже состоятельной вдовой, которой искренне хотелось применить свое состояние для хороших дел. Почти случайно она подошла к группе людей Amnesty International, познакомилась с ними и стала активным членом этой организации.
Обычно активисты от Amnesty берут под свою опеку конкретных политзаключенных в какой-либо стране и занимаются помощью этим людям на протяжении многих лет. Христа Бремер пришла на мероприятие в одном бременском книжном магазине, где выступал германист, писатель и правозащитник Лев Копелев, за пару лет до этого лишенный советского гражданства и оказавшийся в принудительной эмиграции. К нему подошла Христа Бремер и спросила, кого бы он ей посоветовал опекать в Советском Союзе. Копелев, не задумываясь ни на секунду, выдал перечень имен украинских политзэков, первым именем было Василь Стус.
Несметное количество писем и посылок, как и эту с карточкой от 5 июля 1979 года, отправила Христа Бремер Василю Стусу и в лагерь, и в ссылку, и все вот с такими «ответными карточками», где есть две маленькие графы: дата и подпись получателя. Но Стус, верный своему духу инакомыслящего, умудрялся даже в этих ограниченных полях рядом с подписью дописать что-то личное и информативное. На этой карточке он вписал по-немецки: «Danke sehr!» («Большое спасибо!») — и добавил: «Mein Finis — 11.8!» Это означает: 11 августа — конец его ссылки. Судя по всему, от волнения Стус под датой получения по ошибке написал 1977 год.

А в Киеве в то время царила удручающая ситуация: многие из участников, создавших в ноябре 1976 года Украинскую Хельсинкскую группу, не смогли встретить Стуса, так как сами оказались в статусе политзаключенных. Стус не мог не поддержать своих коллег по духу. Осенью 1979 года он присоединяется к Хельсинкской группе, и уже весной 1980 года его снова арестовывают. В сентябре 1980 года суд выносит Стусу приговор: 10+5, 10 лет лагерей и 5 лет ссылки.
Последний период жизни Василя Стуса в лагере «Пермь-36», лагере с жуткой репутацией, был особенно тяжелым. Христе Бремер, при всех ее усилиях, не удалось восстановить со Стусом контакт. А 4 сентября 1985 года Стус умер при невыясненных обстоятельствах в изоляционной камере лагеря.
Почему я выделила именно эту карточку? В моих глазах Стус — абсолютно нетипичный диссидент. На самом деле это был поэт — очень одаренный, философский поэт. В нем не было политического: «снести режим» и так далее.
Я бы сказала, в каждом культурном социуме или народе есть хотя бы один человек, переходящий все границы, необыкновенный человек, который входит в историю всей своей биографией, и творчеством, и всем, как он жил.
Для Стуса все-таки, наверное, и в философском, и в мировоззренческом смысле на первом месте — человек, воля, независимость, мышление, а потом уже все остальное.
Он был украинским мальчиком, вырос в украинской культуре, причем вырос в Донецке и Донецкой области. Его детство пришлось на послевоенное время, и это было время тотальной русификации. Я это говорю, потому что мой папа, несмотря на свои немецкие и меннонитские корни, родился и вырос также в Донецкой области, в меннонитской колонии. И все рассказы наших близких друзей, кто жил в Донецкой области и в Донецке послевоенных лет, все это подтвердили. Во-первых, после голодомора и Второй мировой войны, депортации и прочего от местного населения почти никого не осталось. Но те, кто там жил, работал — якобы это было новое поколение молодой советской послевоенной Украины — это была сплошная даже не русификация, а советизация.
И вот все это Стус не принимал. Потому что родители преподнесли ему, передали и воспитали в нем вот эту украинскую культуру, которой вокруг него не было. Он нес ее в себе.
Он сохранил и дополнил украинский язык. Литературоведы по сей день рассуждают, как ему это удалось. Как, откуда этот молодой человек в Донецкой области для себя нашел [язык], сохранил и еще сам развил, и в этом языке жил и писал? Ведь его лирика очень сложная.
Из мемуаров, воспоминаний друзей и коллег видно, что многим не хотелось, чтобы Стус так открыто протестовал и был диссидентом. Ему часто говорили: «Побереги себя. Таких, как ты, мало. Ты оставишь для нашей культуры больше, если будешь на свободе, а не в тюрьме». Но Стус... Он даже обижался: как же без него? Так было и перед последним арестом, когда выяснилось, что почти все первые организаторы и создатели Хельсинкской группы в Киеве уже сидели, только Петро Григоренко был в эмиграции. Стус только полгода как вышел из ссылки. Его умоляли: «Подожди, мы найдем человека, который представит нашу группу». Нет, Стус сказал: «Как же без меня? Я вступаю». И несколько месяцев ему удалось только быть активным в Хельсинкской группе, и потом его снова арестовали.
Но самое трагичное другое. Еще когда Стус был в тюрьме, в киевской и потом в московской, он написал очень много тетрадей с переводами и комментариями Рильке, аннотациями, размышлениями. И все это забрали в КГБ. До сих пор они утверждают, что этих тетрадей у них нет. Киевский КГБ все свои архивы открыл, у них этого материала нет. Это значит, этот материал есть у московского КГБ. Они не признаются. При этом, уже в перестроечные годы, я помню, как Копелев об этом говорил, что не надо теперь в политическом ракурсе обсуждать: плохо, не плохо. Просто выдайте этот чемодан для литературного мирового наследия, там лежат перлы, пожалуйста. Но на это никто никак не отреагировал.
Тем более Стус, кажется, в 1977 году был принят в интернациональный ПЕН-клуб, и не из-за того, что он узник политический, а именно потому, что он такой уникальный поэт. И в 1985 году, когда председателем международного ПЕН-клуба был Генрих Бёлль, имя Стуса было внесено в список кандидатов. Он не стоял на первом месте, где-то там на седьмом или восьмом, но он был внесен в список кандидатов на Нобелевскую премию по литературе.
Есть какие-то категории, в которые расставляют людей, — его ни в какую категорию нельзя было вставить. И, наверное, Христа Бремер это просто чувствовала по-человечески и сердцем.
Он ей писал письма на немецком языке. Все эти годы по переписке и по этим карточкам видно, что для других политзаключенных помощь прагматичная: теплые носки, шоколад. А вот со Стусом — там была книга, и он называл конкретные имена авторов или конкретные названия книг, которые, наверное, Христа Бремер в Германии никогда не читала и в руках не держала. Но для него она их находила и ему отсылала.
И она буквально бомбардировала Министерство связи СССР и требовала, чтобы выяснили, куда ушла та или иная посылка, почему она потерялась. Это так важно. И если они не могут передать ее адресату, то пусть они ей возвратят.
Поэтому на этой карточке одно то уже, что Стус перепутал год, вместо 79-го написал 77-й, — буквально можно себе представить, как он волновался. И обязательно хотел сообщить Христе, что вот еще один месяц, и он выйдет на свободу. В этой карточке и в этих нескольких словах и датах столько энергии!
Это так трогательно, как он готовился к этой дате. И как переживали, конечно же, его друзья и семья в Киеве и Христа Бремер здесь, в Германии. И это все чувствуется для меня. Это все собрано в этой маленькой почтовой карточке.
Тем более учитывая, что это была так называемая холодная война. И взглянув на географическую карту, можно увидеть, какой путь прошла эта карточка. Из Бремена она дошла до Магаданской области, Стус ее подписал, и она вернулась в Бремен! Это не описать, что чувствуется, когда держишь эту маленькую розовую карточку с рукописными пометками Василия Стуса.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Коллекция диафильмов семьи Сокирко: уникальный источник по жизни и истории почти всех регионов Советского Союза 1980-х годов.

Надо сказать несколько слов о биографии Виктора Владимировича Сокирко, который родился в 1939 году в Харькове, умер в 2018 году в Москве, был советским инженером, экономистом, участником правозащитного движения, автором и пропагандистом самиздата.
Он закончил МВТУ имени Баумана и работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте нефтяного машиностроения. Материалы, о которых пойдет речь дальше, часто переплетены в обложки институтского документооборота.
В 1973 году он был осужден за отказ от дачи показаний по делу Якира и Красина на шесть месяцев исправительных работ. В конце 1970-х вошел в состав редколлегии самиздатского журнала «Поиски», издавал в самиздате сборники в защиту экономических свобод под псевдонимом К. Буржуадемов. В 1980-м был осужден за участие в этих самиздатских проектах на три года лишения свободы условно. С 1989 по 2001 год был председателем Общества защиты осужденных хозяйственников и экономических свобод, а также соавтором, вместе с супругой Лидией Николаевной Ткаченко, слайд-фильмов, которые они делали с 1966 по 1990 год.
Собственно, это и будет наша сегодняшняя тема: слайд-фильмы, диафильмы, как их называли Виктор Сокирко и его жена Лидия Ткаченко.
Что такое диафильмы? Это, как мы сказали бы сегодня, презентация, состоящая в среднем из 100, 200, иногда до 400 кадров. Показ этих фильмов сопровождался записанным на магнитофонную ленту текстом с музыкальным оформлением.
Лидия Николаевна, жена Сокирко, вспоминала: «Делать озвученные диафильмы нас научил однокурсник и Витин сотрудник Слава Коренков, показавший осенью 1966 года на трубном заводе свое творение о летнем отдыхе нескольких заводчан. Продемонстрированное сочетание цвета и звука, красок и музыки, зрительной и текстовой информации вызвало наше восхищение. Мы тут же переняли что смогли, и появился диафильм „Весна света“. Он о вечной природе, о январском свете и о друзьях. Мы учились в нем говорить своим языком, опираясь на Михаила Михайловича Пришвина и русских поэтов. Наряду с главной темой, почти религиозным воспеванием природы, в „Весне света“ появились и другие, ставшие потом отдельными направлениями. Одно из них — церковное. В том же году мы начали планомерно фотографировать московские церкви.
Не одна сотня людей посмотрела наши „Московские церкви“ — так назывался фильм — и у нас дома, в других домах, и на трубном заводе, и в разных клубах, и в школьных, и в студенческих аудиториях. В Историко-архивном институте тоже».

Всего было сделано 108 таких диафильмов. Что это были за диафильмы?
Опять-таки по воспоминаниям жены Виктора Сокирко: «Это прежде всего слайды из походов по нашей стране, упакованные в картонные рамки и размещенные в соответствии с требованием сценария...»
От себя скажем сразу, что в архиве Исследовательского центра Восточной Европы самих слайдов нет. Есть только тома текстов: сценариев, пояснений, комментариев и записей обсуждений этих фильмов.
Итак, продолжаем. «...Сценарий писался, как правило, Витей [то есть Виктором Сокирко], а потом мы вместе доводили его до кондиции, до четкой мысли, до непогрешимо правдивого изложения событий и своего к нему отношения, до чистоты от излишних тем».
Сценарии перепечатаны и собраны в тома. Это машинописные копии, переплетенные обычно в коленкоровые или картонные обложки зачастую какой-то технической документации. Ну и, наконец, технические средства: диапроектор, магнитофон и руки, меняющие слайды в соответствии с текстом.

Давайте приведем некоторые типы и примеры таких диафильмов. Первое — это историко-краеведческие, начиная с того самого фильма о московских церквях и дальше по многим регионам Советского Союза.
Эти фильмы делились на серии. В серии «Россия» были сделаны фильмы «Москва — Ополье — Волга», «Алтай — Сибирь», «Северо-восток», то есть Кижи, Соловки, Онега, Вологодчина, «Северо-запад», то есть Новгород, Псков, Прибалтика, Ленинград. В серии «Окраины» — фильмы о Средней Азии, Кавказе и так далее.
Во вторую группу можно было бы включить фильмы о туристских или водных походах, в которые ходили Сокирко, его жена и их друзья. В 1981 году это фильм «Черноморье», в 1984-м — «Памирский дневник», в 1985-м — «Южнорусский дневник», в 1986-м — «Урало-кавказский дневник».
Советский Союз был весьма закрытой страной. Выехать за его пределы было крайне трудно. Но весь достижимый, видимый и явленный в границах страны мир был этими людьми объезжен и изучен.
Были фильмы о родителях, родственниках и детях. Одним из самых важных, хранящихся как раз в нашем архиве, является фильм «Память о маме», о Татьяне Дмитриевне Глобенко: «Ее дорогим внукам и моим детям — Артему, Гале, Алеше и Ане Сокирко».

Зачем все это делалось? Как сами создатели формулировали цели своей работы?
Виктор Сокирко писал о диафильмах, которые стали «не только хобби, но и ведущей формой нашего освоения мира». Его жена продолжала: «Мы выполнили одно из своих назначений в жизни — сохранить память о нашем времени и подарить будущим историкам наши и нашего окружения живые, неподцензурные мысли и чувства».
Мне кажется, что в этом способе освоения, узнавания, понимания мира есть огромная любовь и благодарность к этому миру. Это бесконечно здорово, что люди так себя вели в этих очень ограниченных пределах, очень сжатых рамках, очень скудных и финансовых, и временных, и психологических обстоятельствах. Они сделали максимум, чтобы оставить запечатленным тот мир, который они видели, с огромным прошлым этого мира и сиюминутным синхронным слепком этого мира.
Обязательно надо сказать о том, что эти фильмы обсуждались. По пятницам в доме у Сокирко собирались гости: когда десять, когда двадцать, когда тридцать. Самое большее, может быть, сорок человек. Всего в сезон, например, 1981–1982 годов Сокирко насчитал 109 участников таких встреч. Показывался фильм, потом шло обсуждение. Обсуждение записывалось.
При этом Сокирко фиксировал и состав участников, и их профессии и образование. Обсуждение тоже становилось документом эпохи. Ему было важно зафиксировать не только разные мысли, разные идеи, которые сталкивались в этом обсуждении, но и связать их с социальным положением, социальным статусом выразителей этих мыслей. То есть в записях этих обсуждений можно видеть своего рода социальную антропологию того времени.
Темы фильмов, как правило, сочетались в этих обсуждениях с более общими вопросами: философского, культурного или исторического свойства.
В томе, где собраны стенограммы обсуждений, находим, между прочим, такие темы: «Алтай (Зачем мы ходим в горы?)», «Тянь-Шань (Смыслы работ Айтматова)», «Сибирь — Бурятия (Что дает нам буддизм)», «Эстония, Латвия, умирающий Кёнигсберг (Европа и Россия, католичество)», «Московские церкви (Наши православные истоки)», «Онега, Соловки (Ключевой вопрос: православие — самодержавие или народность?)» и так далее.

Для обсуждения каждого из этих фильмов заранее формулировались вопросы для дискуссии. Например, для диафильма «Алтай» общей темой была названа «Смысл и философия альпинизма», а более частными вопросами — такие:
1) Есть ли связь горных высей и высот духа?
2) Можно ли поклоняться природе как бесконечности, Богу, или такое поклонение достойно осуждения как идолопоклонство? Отношение к пантеизму.
3) Что задело в фильме? Личные впечатления.
4) Горный поход как модель человеческой жизни: с идеалами, утопиями и, с другой стороны, сытостью и теплом долин. Горный поход как система испытаний и обучения жизни.
Среди участников обсуждения Сокирко выделял не только и не столько индивидуальные подходы, сколько исторические типы. Например, православный почвенник, западник, марксист-патриот.
Лидия Николаевна вспоминала: «Наши друзья и знакомые ждали новых диафильмов. По несколько раз смотрели старые и то воспринимали наши откровения, то яростно спорили, отстаивая свое представление о предмете спора. Случайные люди с удивлением слушали непривычные речи и порой тоже выносили свои мысли на суд других».
Настало время сказать несколько слов о значении этих фильмов. В первую очередь это исторические экскурсы в прошлое практически всех областей тогдашнего Советского Союза. Эти фильмы представляют собой культурную, этнографическую, природную панораму жизни огромной страны. Они пронизаны нарративом узнавания, исследования и понимания. Это вообще ключевое слово для всей деятельности Сокирко. Том, в котором собраны стенограммы вечеров и анализ этих вечеров, Сокирко называет «Обсуждение диафильмов ради поисков взаимопонимания».
Вот это умножение времени, эта стратегия личного поведения в ограниченных возможностях, это стремление понять всю сложность очень богатого, очень большого мира: понять самим, обсудить с друзьями, оставить детям — мне кажется, это очень-очень важно.
Я вообще думаю, что этот материал ждет своего исследователя, своего историка, своего издателя.
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Как Николай Глазков изобрел легендарный термин для обозначения неподцензурной литературы, что такое протосамиздат и при чем тут Веничка Ерофеев и Андрей Тарковский.

Давайте поговорим про собрание самиздата 1940-х — 1970-х годов литературоведа, историка и библиографа Юрия Ивановича Абызова.
Несколько слов о нем. Абызов родился в 1921 году на Урале, в маленьком городке Реж Екатеринбургского уезда, тогда еще Пермской губернии. В 1940-м был призван в армию, воевал на Юго-Западном фронте, был тяжело ранен под Харьковом. Вернулся и поступил в Свердловский университет. В 1946 году перевелся в Латвийский университет, в 1949-м окончил его и жил в Риге. Преподавал в Рижском педагогическом институте, много переводил с английского, польского, латышского. С 1989 по 2006 год был председателем Латвийского общества русской культуры. Он много лет посвятил составлению библиографии русской эмигрантской печати.
В его собрании находятся самодельные поэтические книги Ахматовой, Гумилева, Мариенгофа, Северянина, Цветаевой, Шершеневича. Первые из этих книг были сделаны в середине и конце 1940-х годов, когда в Свердловском университете сложилась компания молодых людей, увлеченных поэзией.

Одна из самых ценных частей его фонда — собрание протосамиздата.
Что это такое? Принято считать, что самиздат зародился в эпоху оттепели. Но до самиздата эпохи оттепели идея самодельных книг для своего удовольствия, общего чтения в дружеском кругу, в принципе идея неподцензурной литературы существовала давно. Такого рода издания 1920–40-х годов принято называть протосамиздатом. И вот собрание Абызова — замечательный пример коллекции такого рода изданий.
Как оно сложилось? Юрий Абызов учился в Свердловском университете с 1943 по 1946 год. Среди его преподавателей был поэт и переводчик Даниил Михайлович Горфинкель из гумилевской «Звучащей раковины». Преподавателем английского языка и одновременно человеком из его круга был Лев Хвостенко, отец известного Алексея Хвостенко, Хвоста, — переводчик и историк литературы. А еще в этом кругу был человек по имени Виктор Рутминский.
Они организовали неподцензурное, конечно, неофициальное, самодельное издательство «Стилос», которое занималось переписыванием поэтов, не входивших в советский канон, а также оформлением собственных стихов или стишков. То есть все начиналось, видимо, с собственных литературных опытов.
Затем они переписывали от руки и сшивали поэтов Серебряного века. Тех, что случайно попадали им в руки и которых хотелось оставить себе для чтения и памяти. Например, сборник Владимира Нарбута «Плоть. Быто-эпос», вышедший в Одессе в 1920 году. Сборник избранных стихотворений Гумилева из книг «Романтические цветы», «Костер», «Огненный столп», «Жемчуга», «Чужое небо». Книжка Анатолия Мариенгофа «Стихи и поэмы 1922–1926 годов».
Первые книги из собрания Абызова, напечатанные на пишущей машинке, — 1953 года. Это томики поэтического собрания сочинений Николая Глазкова. О нем мы скажем ниже.
Особенно красиво выглядят книжки, сделанные рукой Маргариты Степановой — видимо, тоже студентки Уральского университета, принадлежавшей тому же литературному кружку. Это точная рукописная копия — с рисунками, графикой, виньетками, издательскими печатями, оглавлением, разметкой страниц и точным расположением текстов по страницам изданий.
Конечно, Свердловск не был единственным центром протосамиздата в Советском Союзе. Но благодаря подвижнической деятельности Абызова, благодаря тому, что его архив был взят на хранение Габриэлем Суперфином в архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете, это собрание на сегодня является одной из самых цельных и ценных коллекций такого рода.
Не только протосамиздат, но и ранний этап собственно самиздата щедро представлен в этом собрании. Особое значение в этой коллекции имеют поэтические тома Николая Ивановича Глазкова, который получил официальное признание только в 1960-е годы. В собрании Абызова присутствуют первая, третья, пятая, восьмая книги стихов Глазкова, составленные в 1953–1955 годах. И еще два сборника стихов и поэм.

От которой, собственно, и получило распространение понятие «самиздат».
Николай Иванович Глазков писал стихи с 1932 года. С 1938 года учился в Московском педагогическом институте. В 1939-м вместе с Юлианом Долгиным основал неофутуристическое литературное движение «Небывализм». Выпустил два литературных альманаха. За это — или за то, что его отец был репрессирован, или за то и другое — Глазкова отчислили из института. В 1940 году он поступил в Литературный институт, где его сокурсниками были Михаил Кульчицкий, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Павел Коган. То есть поколение поэтов военного времени. Сам Глазков в армию не призывался по болезни, по расстройству психики, и в войне не участвовал.
Уже ранние стихи Глазкова второй половины 1930-х годов поражают.
Свободная форма, разговорные интонации, каламбуры, ирония, актерство, самоирония и саморефлексия.
Я иду по улице,
Мир перед глазами,
И слова рифмуются
Совершенно сами.
(1939 год)
Пьяному быть хорошо.
Пьяный безумьем умен.
Пьяный не ищет дорог,
Сами ведут его ноги.
Правда, грядущих времен
Я не придумал еще.
Но говорю как пророк,
Люди, они одиноки.
Поэзии Глазкова свойственны афористичность, сильное лирическое начало, удивительная свобода слова и формы.
В 41-м году написано:
Мне нужен мир второй,
Огромный, как нелепость,
А первый мир маячит, не маня.
Долой его, долой:
В нем люди ждут троллейбуса,
А во втором — меня.
К вопросу о поэтической традиции:
Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.
1942 год, война на дворе:
Огромный город. Затемнение.
Брожу. Гляжу туда, сюда.
Из всех моих ты всех мойнее —
И навсегда!
Как только встретимся, останемся,
Чтоб было хорошо вдвоем,
И не расстанемся, и не состаримся,
И не умрем!
А вот стихи 1944 года:
Живу, стихов не издавая,
Зато поэзию творю.
Неважно, как я поступаю,
А важно, что я говорю.
Что говорю, тем обладаю,
А издаваться не спешу.
Неважно, что я там болтаю,
А важно то, что я пишу.
Пишу, что станет жизнь иная,
Поэтоградной наяву.
Неважно, что я сочиняю,
А важно то, как я живу.
Неважно, что поэт обманут
Не согласившимися с новым,
А важно, что его помянут
Великолепным добрым словом.
Меня признают, я уверен,
Раньше, чем через двести лет,
И будет лучшей из таверен
Глазковский университет.
Современнику, любящему Тарковского, Глазков известен по роли летающего мужика в начале «Андрея Рублева».
И безбытность, и бездомность, и позднее признание — все было в этой судьбе. В один из томиков его собрания стихов вложен его автограф-четверостишие, которое может считаться эпиграфом ко всей советской истории:
Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!
Удивительный совершенно поэт.
Драгоценность нашего архива в том, что в нем хранятся машинописные сборники стихов Николая Глазкова, на титульном листе каждого из которых написано: год (как правило, 1953-й), и фиктивная издательская марка: «Самсебяиздат».
Начать ваш собственный архивный поиск можно с электронных версий архивов:
Архив Научно-информационного центра «Мемориал»
Архив Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
_______
You can start your own archival research with the digital archives:
Memorial Society archive
Feniks Database of the Archive of the FSO Bremen
_______
Sie können Ihre eigene Archivrecherche in folgenden digitalen Archiven beginnen:
Archiv der Gesellschaft Memorial
Feniks Datenbank des Archivs der FSO Bremen
Изображения: Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», Исследовательский центр Восточной Европы, Государственный архив Российской Федерации (Ф. 10035; Ф. 10035. Д. П-1889; Ф. 10035. Д. П-27759; Ф. 10035. Д. П-10874; Ф. 10035. Д. П-12311; Ф. 10035, Д. П-26286; Ф. 10035. Д. П-745), Российский государственный архив социально-политической истории (Ф. 589. Оп. 3. Д. 6917), База данных жертв политических репрессий в СССР «Открытый список», Музей «Мемориала», Наталья Барышникова / «Мемориал», sokirko.info / CC BY 4.0, Музей Преображенской психиатрической больницы им. В.А. Гиляровского, Российская государственная библиотека, Государственный архив Вологодской области, Воркутинский музейно-выставочный центр, Электронная энциклопедия Томского государственного университета, Интернет-аукцион «Мешок», HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Images: SIEC Memorial, Research Centre for East European Studies, State Archive of the Russian Federation (F. 10035; F. 10035. F. P-1889; F. 10035. F. P-27759; F. 10035. F. P-10874; F. 10035. F. P-12311; F. 10035, F. P-26286; F. 10035. F. P-745), Российский государственный архив социально-политической истории (F. 589. S. 3. F. 6917), Open List database of victims of political repression in USSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum of the Preobrazhenskaya Psychiatric Hospital named after V.A. Gilyarovsky, Russian State Library, State Archives of the Vologda Region, Vorkuta Museum and Exhibition Center, Electronic Encyclopedia of Tomsk State University, Meshok Online Auction, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department
Bilder: WIAZ Memorial, Forschungsstelle Osteuropa, Staatsarchiv der Russischen Föderation (F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035; F. 10035), Russian State Archive of Socio-Political History (F. 589), Russisches Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte (F. 589. Оп. 3. Д. 6917), Open List Datenbank der Opfer politischer Repression in der UdSSR, Memorial Museum, Natalia Baryshnikova / Memorial, sokirko.info / CC BY 4.0, Museum des nach V.A. Gilyarovsky benannten psychiatrischen Krankenhauses Preobrazhenskaya, Russische Staatsbibliothek, Staatsarchiv der Region Wologda, Museums- und Ausstellungszentrum Workuta, Elektronische Enzyklopädie der Staatlichen Universität Tomsk, Meshok-Online-Auktion, HarperCollins Publishers, Wikimedia Commons, Sam Hughes / CC BY 2.0, Rijksmuseum, National Archives and Records Administration, Cumberland Police Department


